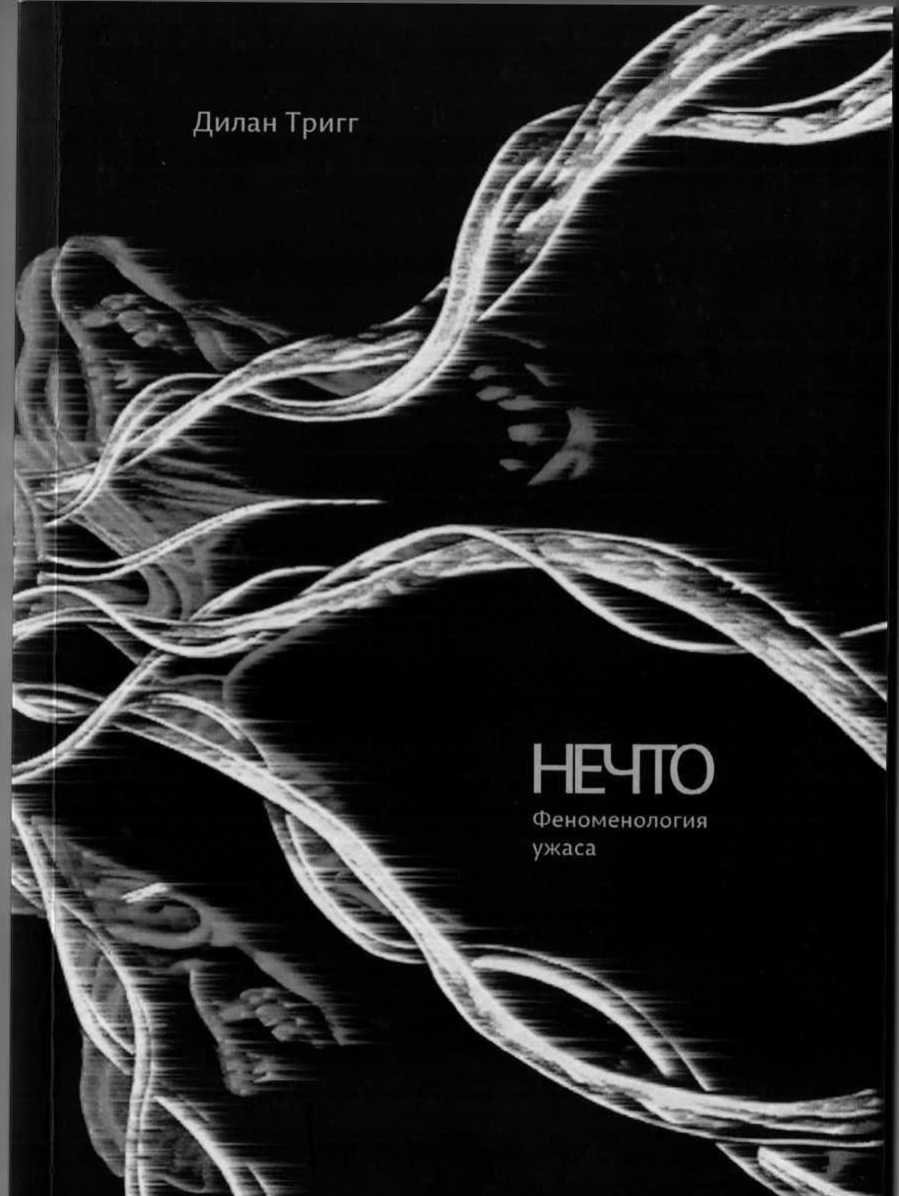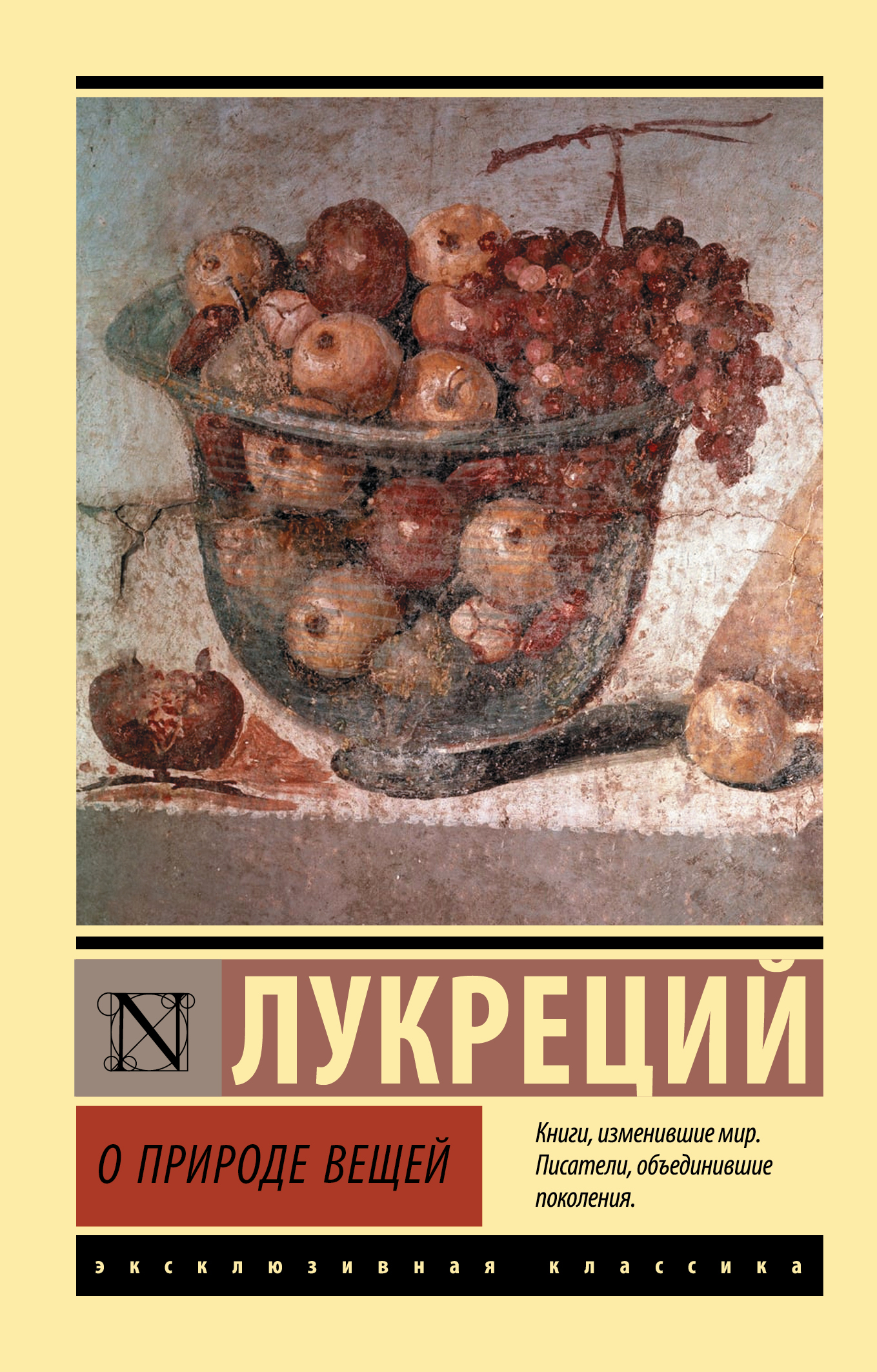даже своего рода свободой, наличие которой со всей очевидностью доказывается тем, что он подвержен болезни» (Шеллинг 1989, 97). Именно в бунте тела восстанавливается его витальность — даже ценой уничтожения субъекта.
IX
Полярники постепенно начинают понимать природу нечто. Приняв на себя роль патологоанатома, Док проводит вскрытие массы мертвой материи и приступает к диагностике: «Видите ли, мы тут имеем дело с неким организмом, который имитирует другие формы жизни, причем эти имитации превосходны». Не имея собственной субстанции, не говоря уже о каком-то определенном облике, нечто не просто имитирует другие формы жизни, но активно вытесняет их в процессе ассимиляции. Подойдя ближе к трупу, Док указывает на вывернутую среди окровавленных костей голову собаки: «Вот это, например. Это не собака. Это — имитация. Мы просто не дали ему закончить».
X
Наша идентичность очень нам дорога, и оберегать нашу субъективность мы начинаем с границ собственного тела. Столкнувшись с doppelganger, мы склонны реагировать отнюдь не нарциссически, как в случае с отражением в зеркале. Мы будем поражены ужасающим предположением о том, что наша субъективность была дублирована и, следовательно, деформирована. Единичность наших тел несводима к чему бы то ни было. Если мы и допускаем, что наша органическая идентичность анонимна, то вытесняем эту мысль. Но подобное вытеснение безликости тела не особенно успешно, и наше существование зиждется на тонком балансе между признанием частей тела немыми органами и приписыванием этим органам голоса. Однако еще до всякой эффективности имеется тело без органов Арто, которому Делёз дает голос посредством визуальных образов Фрэнсиса Бэкона. Суть такого представления заключается в «нейтрализованном организме», где «лик человеческий еще не обрел своих черт» (Делёз 2011, 59). Такое тело мы обнаруживаем в его отвратительном становлении, застигнутым между различными состояниями как промежуточную корпореальность, где языку недостает средств для того, чтобы организовать материальность в единое целое. «Примордиальное бытие, — как справедливо замечает Мерло-Понти, — еще не является ни бытием-субъектом, ни бытием-объектом» (Merleau-Ponty 1970, 65-66). Оно ужасно и ужасает не своей чуждостью, а тем, что мы уже находимся на сцене тревоги, захваченные той бесформенной плотью, что выступает не пассивным фоном, на котором разворачивается реальная жизнь, но тем самим местом, где жизнь создается и дублируется [30].
XI
Команда «Станции-31» прибывает к месту, где норвежцы занимались раскопками. На дне огромной ледяной впадины покоится остов космического корабля, который мы видели в самом начале. Его размер колоссален, о чем можно судить по той воронке, которую он оставил во льду после стремительного падения из космоса. Большая часть корабля скрыта под снегом, что не мешает, однако, с легкостью угадать общие очертания судна. Трое полярников стоят над местом крушения, невольно воссоздавая типичные для живописи Каспара Давида Фридриха силуэты. Только в отличие от возвышенной эстетики «Странника над морем тумана», представшее перед нами зрелище не позволяет с уверенностью утверждать, что разум с неизбежностью обуздает дикость этой чужеродной среды. Исследователи спускаются вниз по отвесному склону. Осматривая место крушения, они делают предположение, что корабль оставался погребенным во льдах по меньшей мере 100 000 лет. Чуть в стороне от места раскопок они обнаруживают зияние, в очертаниях которого легко угадывается форма уже известного им ледяного саркофага. Однако вместо того, чтобы служить знамением смерти, опустевшее захоронение обещает новый исток.
XII
Мы возвращаемся к Земле как планетарной пустоте. Этот синий шар предстает космической лакуной, которая, со всеми погребенными в ней тайнами, лишает человечество почвы. Земля погибнет. Смерть выжженной Солнцем планеты ознаменует конец мышления как такового. Как пишет Лиотар, «через 4,5 миллиарда лет наступит закат вашей феноменологии и вашей утопической политики, и не будет там никого, кто мог бы возвестить об этом похоронным звоном или услышать его» (Lyotard 1991, 9). Но предшествование Земли не ограничено будущим. Скорее, этот предел имплицирован самой ее историей. Исчезновение Земли — это лишь один из способов, которым мысль изгоняется из тела. Стирание горизонта осуществляется уже как призрачная потусторонняя жизнь предыстории Земли. Подобно гегелевской сове Минервы, мы обращаемся к Земле уже слишком поздно. Она постигается как негативный образ, что указывает на смерть, обнаруживающуюся в самом предшествовании пыльной планеты, состоящей из разрозненных органических и неорганических останков космоса. Она больше не исток чего бы то ни было, но лишь продолжение истории, берущей начало в солнечном апокалипсисе, тенью которого мы все являемся.
XIII
Человеческое измерение ужаса обретает форму всевозрастающей паранойи. Плоть полярников прорастает подозрением, что любой другой может быть Другим. Найден блокнот, в котором кто-то из работников станции вел записи: «В эксгумированных останках наблюдается клеточная активность. Они все еще не мертвы». Хуже того, по предварительным подсчетам «вероятность того, что один или более членов команды инфицирован чужеродным организмом составляет 75%. Прогноз: если этот организм доберется до густонаселенных районов Земли... все человечество будет заражено в течение 27 000 часов с момента первого контакта». Эти апокалиптические предсказания прерываются зрелищем чистого отвращения, когда один из исследователей застигает другого в процессе того, как нечто ассимилирует его. Торс одержимого тела обнажен и залит кровью. На лице застыло выражение немого смирения, в то время как тело оплетают щупальца, постепенно проникая внутрь. Не/человеческое существо выбегает наружу. Внезапно, скованное паникой, оно оседает на снег. Полярники окружают его, и оно поворачивается к ним, обнаруживая на месте рук чудовищные когти. Нечто издает утробный крик, после чего его сжигают заживо.
XIV
Перед лицом конца, перед лицом апокалипсиса прошлое выворачивается будущим. Время коллапсирует, и наступает час упырей, вурдалаков и не/человеческих тел. В ответ человеческое тело готовится к своему собственному уходу — либо утверждая грубое выживание, либо рационализируя грядущее. Терраформирование планет, отличных от нашей собственной, становится столь же важным, как и упорядоченная бумажная работа на Земле. Однако конец так и не наступает, превращаясь вместо этого в затяжную коду, где сама смерть становится неоднозначной, а тело как живой орган готово продолжать существование и после конца. Как напоминает нам Шопенгауэр, мозг не является необходимым для жизни. Это просто дополнение, как «это бывает у лишенных мозга уродцев или у черепах, которые с отрезанной головой продолжают жить еще три недели, при этом, однако, должна быть пощажена medulla oblongata [продолговатый мозг — лат.], как орган дыхания» (Шопенгауэр 1999, 205). Тело будет длить свое существование и после субъекта. Тело будет трансформироваться в процессе, не теряя своей исходной витальности. То, что идентичность субъекта оказывается изуродованной в процессе его ассимиляции чем-то запредельным опыту, нисколько не сказывается на теле как сыром бытии. Единственным, что обнажится в конце, станет пласт упорствующей живучести,