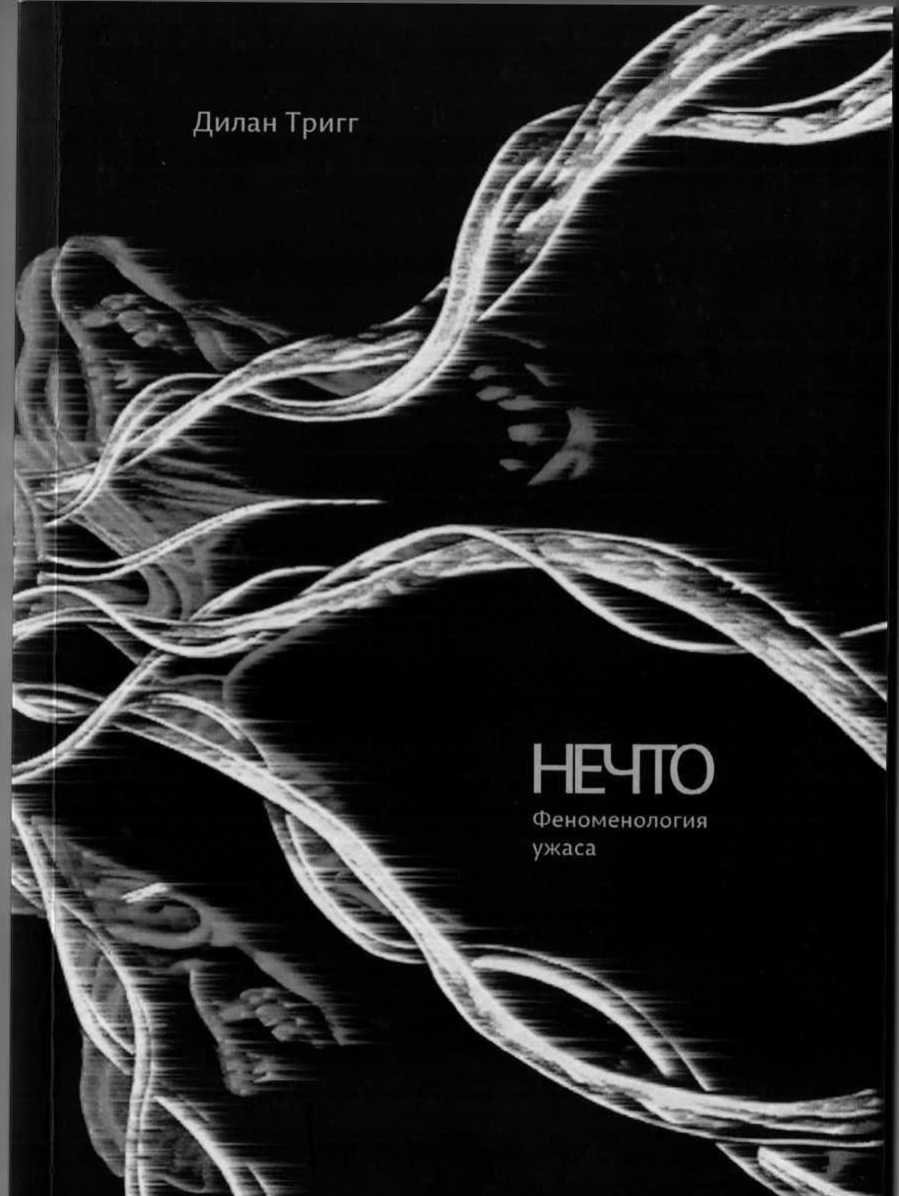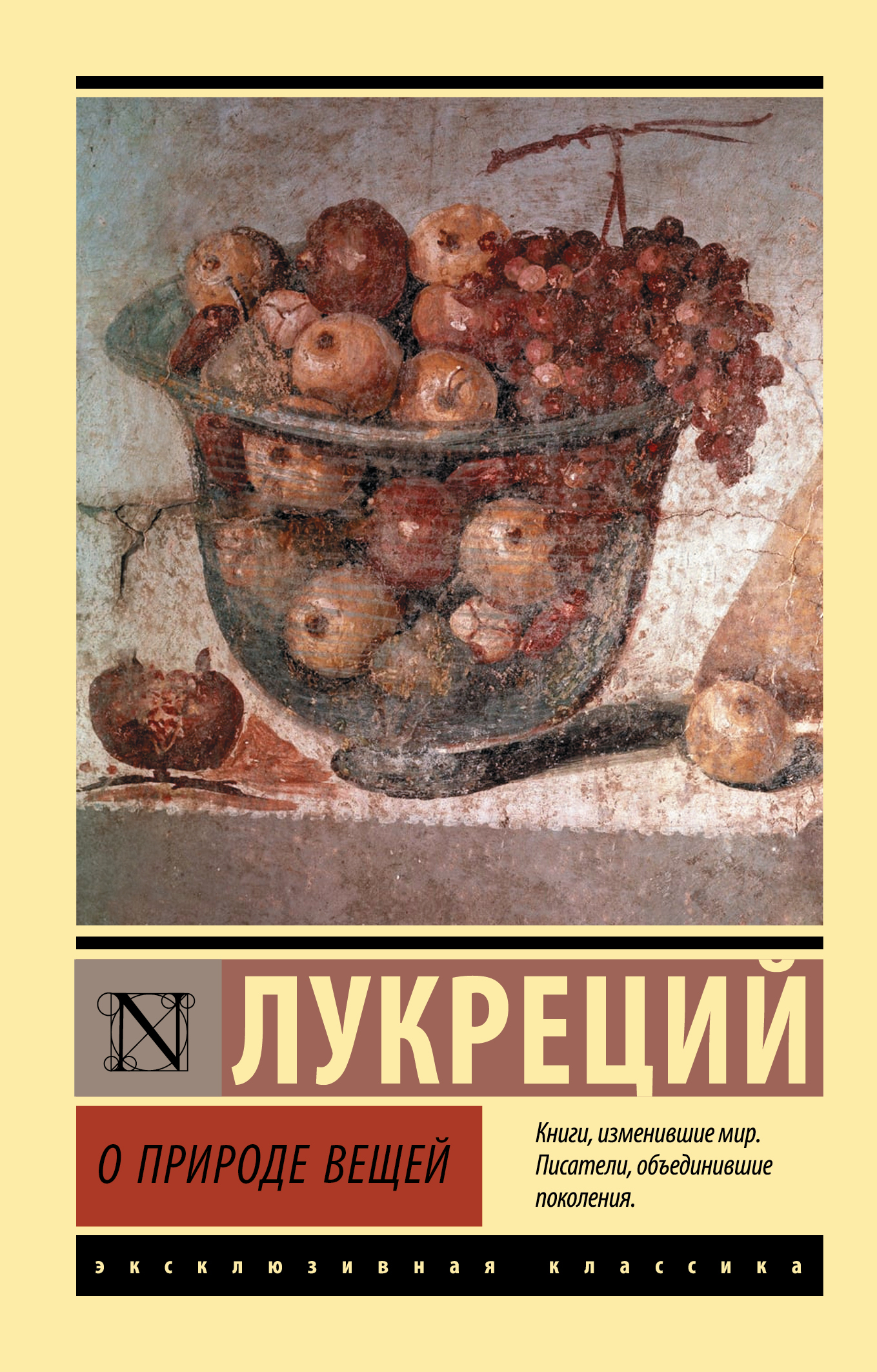жизнь на Земле с тем, чему он стал свидетелем на борту корабля «Восток-1», Гагарин погрузился в меланхолию. Для Левинаса самым поразительным в первом полете человека в космос стало обещание «вероятного прорыва к новым знаниям и новым техническим возможностям» (523). И этот прорыв заключался отнюдь не в механике космоса. Его источником являлось само тело Гагарина. Из своего первого полета в космос он вернулся с таким знанием, которое невозможно назвать объективным или свести к количественно измеримым данным. Обретенное Гагариным знание простирается за пределы Земли, сопротивляется возвращению на нее и как зависает в граничащем с открытым космосом пространстве, так и скрывается в складках его тела [29].
III
Норвежский лагерь сожжен почти дотла. Руины еще дымятся, но снег уже засыпает обломки обугленной древесины. Два исследователя со «Станции-31» — Мак и Док — приступают к осмотру территории лагеря. В одной из дверей застрял красный топор. Проникнув внутрь, полярники обнаруживают на полу замерзшие пятна крови. Следуя по этим следам, они находят застывшее в кресле тело норвежского ученого. Его шея перерезана, а на руках заледенела сосульками кровь. В заднем отсеке лаборатории исследователи обнаруживают нечто похожее на снежный саркофаг. Док замечает: «Может быть, они нашли какое-то ископаемое, останки животного, которое вмерзло в лед, и извлекли его». Но главная находка, не предвещающая ничего хорошего, ждет их снаружи. Выйдя на холод, они натыкаются на заметаемое снегом мертвое деформированное тело со скрюченными конечностями и обгоревшей плотью.
IV
Как бы мы ни пытались вообразить Землю со стороны, эта планета сопротивляется нашему вопрошанию как на концептуальном, так и на опытном уровне. Что-то в ней отказывается утолить человеческую жажду близости и уюта. Вопреки Гуссерлю нечто постоянно движется под нашими ногами. Если Земля и познаваема, то только потому, что она сама очерчивает предел познаваемого. В городах и лесах, вытравленных на поверхности этой планеты, некое нередуцируемое начало слепо упорствует в своем существовании, проступая в моменты тревоги и ужаса, особенно в сумраке. Для Левинаса время «до Земли» является «мифическим», поскольку оно отмечено господством «мифических богов» (Левинас 2000b, 160). В лице этих сущностей мы «сталкиваемся с чуждостью самой земли» (160). Чуждостью потому, что эта изначальная Земля очерчивает «способ существовать... вне бытия и мира» (160).
V
Найденный в норвежском лагере труп доставляют на «Станцию-31» для аутопсии. Пока он покоился в снегу, казалось, что природа еще может милостиво принять его. Теперь же это мертвое тело выглядит еще более отвратительно, чем прежде, и все его уродство становится предельно очевидным. Похоже, что конечности трупа поражены какой-то злокачественной опухолью, которая в процессе реконфигурации привела к формированию массивных когтеобразных отростков. Другие конечности вывернуты так, как будто застыли в мучительной агонии. Кажется, что голова — если это еще можно назвать головой — пыталась произвести свою собственную копию, от чего лицо начало распадаться на части. Однако вместо того, чтобы окончательно потерять привычные очертания, оно представляет собой две пары глаз и два носа, соединенные эластичным оскалившимся ртом. Несмотря на это, все органы остаются человеческими. Помимо реконфигурации частей тела, сами внутренние органы нисколько не изменились. Камера опускается вниз, и становится видно, что спасенная собака внимательно наблюдает за сценой аутопсии.
VI
По ту сторону кажимости феноменология сталкивается с другим телом — тем, которое дано также и в образе трупа. Со смертью тела аутопсия заходит в тупик. Частично это ограничение заключается в неискоренимом предубеждении в отношении феноменологии опыта. Вопреки Декарту мы навязываем телу единство, которое принуждает части тела быть связанными между собой в их отношении к целому. Отделите от тела его часть, и останется орган, столь же чуждый, как и изнанка космоса. Но это не означает, что живой опыт возвращает эти органы к жизни, или, как верно замечает Делёз, это живое «тело — пустяк по отношению к более глубокой и почти непосильной для переживания Мощи» (Делёз 2011, 58). При переопределении феноменологии как не/человеческой тело не черпает свой исходный материал ни из витальности живого опыта, ни из объективного анализа тела как набора частей. Скорее, говорить о феноменологии тела — значит говорить о чужеродной материи, чужой ткани, археологическом пространстве; и все это в своей сырой изначальности, автономно по отношению к классической концепции идентичности, которая налагает запрет на независимость плоти.
VII
Трансформация не ограничивается человеческой плотью и распространяется на плоть животных. В вольере для собак спасенный от норвежцев пес приступает к своему чудовищному перерождению. Так же, как и у найденного на норвежской станции трупа, морда собаки начинает рваться на части, лопаясь кожурой перезревшего плода и обнажая перед нами изнанку плоти. По мере того как собака теряет свое привычное обличие, из спины животного яростно прорастают щупальца. В следующий момент они превращаются в конечности насекомого. Мало что остается от прежней собаки, кроме ее шкуры, залитой кровью в процессе ужасающей трансформации. На шум разверзающейся плоти прибегают полярники. «Я не знаю, что, черт возьми, там такое, — говорит один из них, — но чем бы оно ни было, это что-то странное и оно в ярости». Мак открывает дверь вольера и видит обращенный к свету фонаря взгляд собаки. Теперь это бесформенная студенистая масса. То тут, то там можно рассмотреть собачий коготь или моргающий человеческий глаз. Это не столько какое-то существо, сколько конгломерат различных форм жизни, произвольно связанных друг с другом, и единственное, что их объединяет, — это конституированность одним и тем же изначальным веществом: плотью.
VIII
«Здесь, — пишет Лакан, — открывается перед нами самое ужасное — плоть, которая всегда скрыта от взоров, основание вещей, изнанка личины, лица, выделения во всей их красе, плоть, откуда исходит все, последняя основа всякой тайны, плоть страдающая, бесформенная, сама форма которой вызывает безотчетную тревогу. Видение тревоги, познание тревоги, последнее разоблачение: ты ecu вот это — то, что от тебя дальше всего, что всего бесформеннее» (Лакан 1999, 222; перевод изменен). Изнанка тела служит и местом обитания феномена тревоги. Эта исключительная близость ужаса и тревоги не случайна. Наоборот, она функционирует как инверсия того же самого объекта. Если ужас — это образ отвращения, то тревога, как утверждает Лакан, это осознание того, что ужас уже там, в самой плоти, а потому и в самом субъекте. Этот ужас заключается в независимости тела. По ту сторону субъекта жизнь тела осуществляется большей частью путем предательства, или, как пишет Шеллинг, «отдельный член, как, например, глаз, возможен лишь в целостности организма; тем не менее, однако, он обладает жизнью для себя,