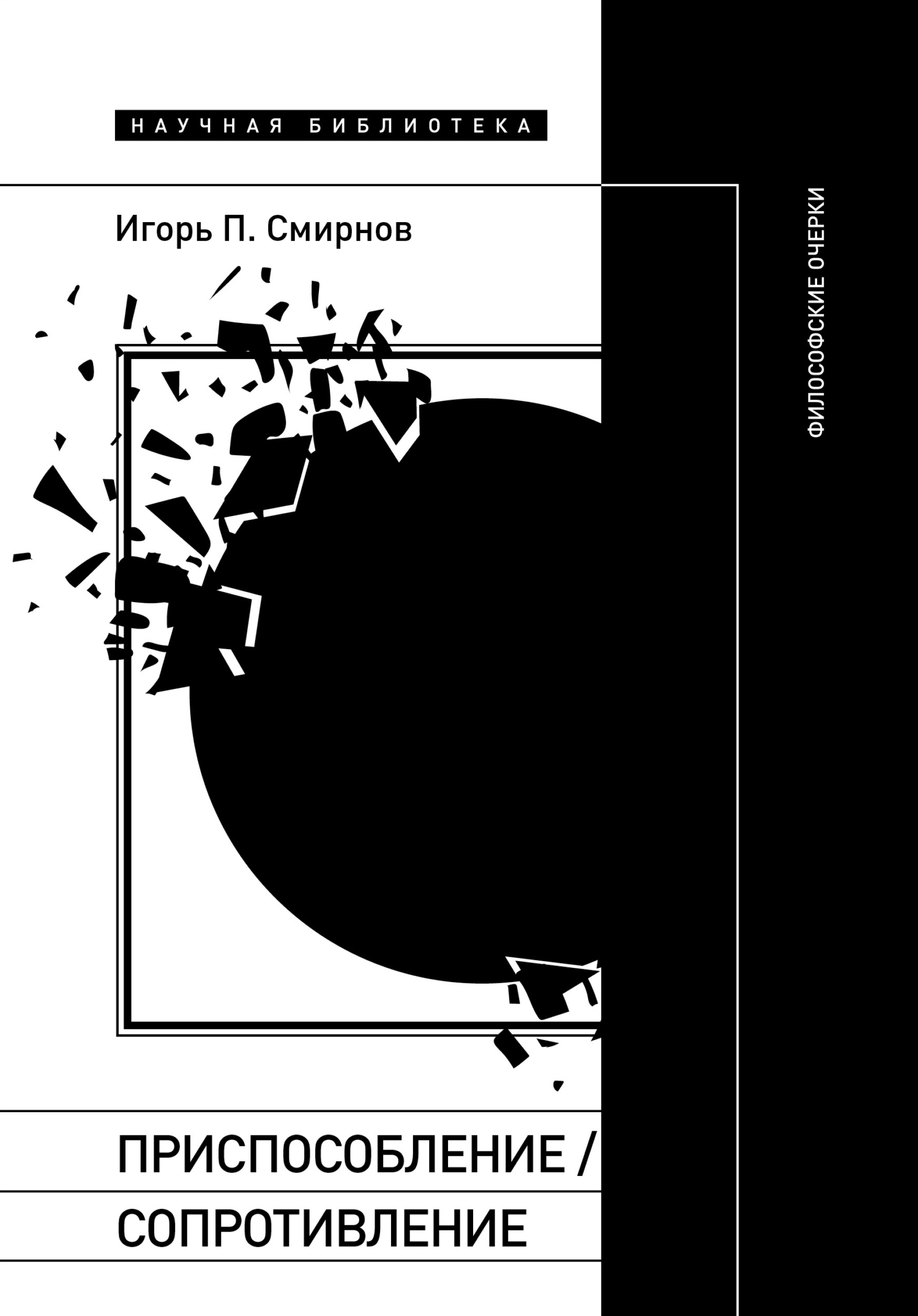Густава Юнга Фрейд часто аттестуется как не философ. На самом деле его сочинения вписаны в многовековую философскую традицию и представляют собой попытку найти ей доказательную базу в терапевтической практике, придать умозрению действенность, к чему ранее обязывал его и Карл Маркс (именно отсюда проистекают чрезвычайная влиятельность обоих мыслителей и искушение, которому поддалась Франкфуртская школа, скомбинировать их идеи). В перечислении признаков бессознательного Фрейд во многом следовал за Гартманом, отмечая, как и тот, что оно несамокритично и атемпорально (здесь и далее я пересказываю статью «Бессознательное», 1915). Подчеркивая, что бессознательным правят наслаждение-удовольствие и неудовольствие, Фрейд также смыкался с Гартманом (по соображению которого сознание принимается за работу, только если воля не добивается утоления желаний) и далее по исторической оси – с Фехнером, полагавшим, как нам уже известно, Prinzip der Lust главной движущей силой нашей психики. То, в чем Фрейд расходился с этими позитивистскими моделями бессознательного, заключалось в том, что он отказывался признать за принципом удовольствия «реальное содержание» (так – у Фехнера). Фрейдовское бессознательное сугубо психично и не подчинено реальности. Оно складывается по причине вытеснения инфантильных по происхождению влечений из сферы сознания, интегрирующего нас в обществе. Бессознательных аффектов, по словам Фрейда, не бывает. В той мере, в какой они подавляются и попадают в бессознательное, все они суммируются в страхе. Испытывая противодействие со стороны сознания, бессознательное втягивает представления в процесс утаивающей их собственный состав субституции, в результате которой они «сдвигаются» (одно из них становится равносильным другому) и «сгущаются» (в одном из них концентрируются сразу многие иные), то есть становятся загадками-символами (понимание психоанализом символообразования из двусмысленности было подытожено Эрнстом Джонсом в 1916 году). Превращенные формы представлений дают знать о себе в сновидениях и неврозах (симптомах). На поверхностный взгляд может показаться, что Фрейд возрождает романтизм с его интересом к переворотам собственного в чужое, но такая точка зрения ошибочна. Если для романтической ментальности любое явление было сразу и тождественно, и не тождественно себе, то Фрейд распределяет эти характеристики, соответственно, между сознанием и бессознательным. Он оппонирует также позитивизму, рассматривая бессознательное не как посредующее звено между индивидом и миром, но как своего рода минусовый медиатор, который уединяет человека в его психическом микрокосме. Третье данное, впрочем, есть и у Фрейда. Оно обрело у него вид «предсознания» – такой области, в которой бессознательное преобразуется в осознанное. Этот посредник, однако, не был выдвинут Фрейдом на переднюю позицию, какую медиаторы занимали во второй половине XIX века. Понятие предсознания, которое Фрейд не эксплицировал детально, было нужно ему лишь для того, чтобы привнести в теорию долю неопределенности, чтобы указать на непрочность границ, которые цензура сознания устанавливает, отправляя аффективно нагруженные влечения (аналоги животных инстинктов) в психическое подполье.
Опустошение посредничества, делавшее связь между постигаемыми величинами неопределенной, недообоснованной, было типовой чертой эпохи Fin de Siècle. На рубеже XIX и ХX веков социокультура попала в полосу перманентного кризиса, порожденного тем, что переходы от одних явлений к другим предстали для нее столь же всезначимыми, сколько и не дающими в итоге однозначности, ставящими субъекта перед лицом загадки со множеством вероятных решений (на что искусство этого периода откликнулось в теории и практике «символизма»). Каким бы ни было бытующее, оно обязывалось выйти из себя, чтобы очутиться в некой рискованной, ненадежной ситуации, у которой отсутствовали четкие контуры. В репрезентанты эпохи выдвинулся индивид, переживающий экстаз как таковой – неважно, куда направленный. Истерия, как это хорошо известно, стала болезнью времени. Эпохальный социокультурный кризис способствовал превращению психической неуравновешенности из персональной проблемы в социально значимую. Интерес Фрейда к бессознательному диктовался практическими нуждами – столкновением врача-психиатра с больными истерией. Массовость этого душевного недуга, переиначивающего «я» в вырвавшееся из-под надзора сознания и неизвестно, куда влекомое, «не-я», придавала опытному подходу к бессознательному неизбежность. Параллельно с Фрейдом (и даже чуть раньше, чем он) на бесконтрольные ментальные процессы обратил исследовательское внимание в «Психологическом автоматизме» (1889) Пьер Жане (он осмыслил их не как универсальные для любого из нас, но как патологическое расстройство – под воздействием травмы – интегративной способности сознания) [286]. Вместе с тем теория (если угодно, философия) Фрейда была производна от господствовавшего в Fin de Siècle мировидения [287]. Его концептуализация бессознательного была метаистерической. Она предусматривала некую совместимость врача и пациента (в длительном диалоге между ними, в переносах пережитого больным на психотерапевта и в контртрансфере), трудность, кризисность излечения от неврозов (сопровождающегося сопротивлением невротика) и в конце концов увенчалась в своем развитии сетованием на то, что социокультуре (нашему «сверх-я») никогда не удастся вполне преодолеть темную стихийную силу, бродящую в человеке.
Как и Фрейд, Юнг отправлялся в своем толковании бессознательного от истерической психики. Но выход самости из себя вел ее у Юнга не к персональным фантазиям, обособляющим «я» от фактической обстановки, а к актуализации в психике индивида безотчетных коллективных представлений, названных архетипами. В книге «Отношения между Я и бессознательным» (1928) Юнг писал (не без оглядки на учение Альфреда Адлера о компенсации неполноценности) о том, что, экстатически теряя себя, мы с неизбежностью восполняем утрату в унаследованных обществом из далекого прошлого первообразах. Бывшее у Фрейда предметом аналитического видения, бессознательное подверглось к завершению декадентско-символистского периода реинтерпретации с синтезирующей точки зрения (в тайниках души каждого человека прячется противостоящее ему по безлично-родовому признаку женское начало (anima) у мужчин и мужское (animus) – у женщин, утверждал Юнг [288]). Личная психика, согласно Юнгу, – это лишь маска (persona) коллективного бессознательного, которая обманывает нас. Фрейд, по его формулировке, осуществил «регрессивное восстановление личины» [289], не приняв во внимание того, что под ней кроется освобождающая нас от себя по восходящей линии идентификация со всечеловеческим [290]. Тем не менее, что у Фрейда, что у Юнга, бессознательное не посредничает между психикой, индивидуальной у первого, коллективной у второго, и внешним миром. Архетипы Юнга как будто возвращают нас к идеям Платона. Однако у того первообразы были достоянием и базисом объективной действительности. У Юнга же они творятся групповым субъектом, психичны, а не онтологичны.
Новую фазу в истории размышлений о бессознательном ознаменовала психофилософия Жака Лакана, поднявшего эту тему на своих семинарах 1957–1958 годов («Семинары. Книга 5. Образование бессознательного»). Бессознательное, как постулировал Лакан, – то большое Другое, какое является нам в языке, не нами созданном. Поэтому бессознательное не может быть организовано иначе, чем язык. Оно представляет собой комбинацию означающих, субститутов реального, имеющих метонимическую или метафорическую форму. В лакановской модели бессознательное коллективно, как и у Юнга, но не первообразно, а скорее риторично. Вместе с тем Лакан