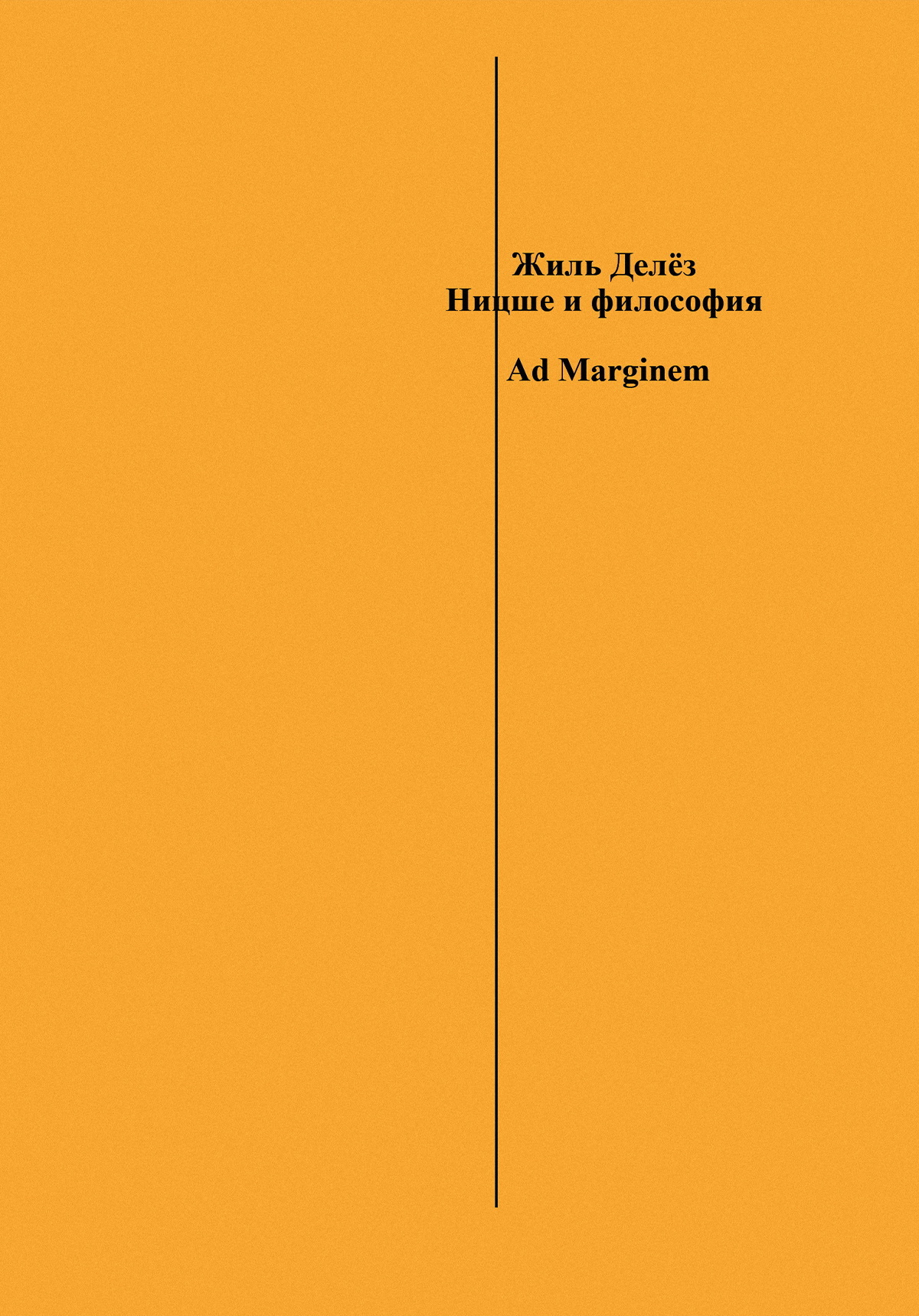порабощение, всякое господство эквивалентно новой интерпретации».
Философия Ницше останется непонятой до тех пор, пока не осознан ее сущностный плюрализм. И, вообще говоря, плюрализм (иначе именуемый эмпиризмом) есть не что иное, как сама философия. Плюрализм этот выступает как изобретенный самой философией собственно философский образ мысли – как единственный гарант присутствия свободы в уме индивида, единственный принцип неистового атеизма. Боги мертвы: но умерли они от смеха, когда услышали, как некий бог заявил, будто он – единственный. «Не в том ли состоит божественность, что существуют боги, но Бога нет?» [20] Да и сама смерть этого, называвшего себя единственным, Бога также плюральна по своей природе: смерть Бога есть событие с множественным смыслом. Именно поэтому Ницше верит не шумным «великим событиям», а безмолвному множеству смыслов любого события [21]. Нет события, феномена, слова, мысли, смысл которых не оказался бы многосложным. Всякая вещь бывает то тем, то этим, а то и чем-то в высшей степени запутанным, в зависимости от овладевающих ею сил (богов). Гегель высмеивал плюрализм, отождествляя его с наивным сознанием, которое довольствуется тем, что говорит «вот это, вон то, здесь, сейчас», будто ребенок, лепечущий о своих незамысловатых потребностях. Но мы рассм атриваем плюралистическую идею, согласно которой вещь обладает многими смыслами, в идее существования множества вещей, а также – «вон того, а затем – вот этого» для одной и той же вещи, как высшее завоевание философии, обретение подлинного концепта, ее зрелость, а вовсе не ее самоотречение (renoncement) или детство. Так как оценка вот этого и вон того, точнейшее взвешивание самих вещей и смыслов каждой из вещей, учет сил, в каждый момент определяющих различные аспекты вещи и ее отношения с другими вещами, – всё это (или всё то) относится к высочайшему философскому искусству – искусству интерпретации. Интерпретировать – и даже оценивать – означает взвешивать. Понятие сущности здесь не утрачивается, а приобретает новое значение, так как ни один смысл не является самоценным или самозначащим. У вещи столько смыслов, сколько существует сил, способных ею завладеть. Однако сама по себе вещь не нейтральна и оказывается в определенном сродстве с силой, присваивающей ее здесь и сейчас. Существуют силы, которые могут присваивать что-либо, лишь придавая присваиваемому ограниченный смысл и негативную ценность. Напротив, сущностью среди всех других смыслов вещи называют тот, который наделяет данную вещь силой, которая обнаруживает с ней наибольшее сродство. Так, согласно излюбленному примеру Ницше, религия не обладает единственным смыслом, поскольку она поочередно служит многим силам. Но что это за сила, которая находится в самом близком сродстве с религией? Что за сила, относительно которой уже непонятно, она господствует над религией или религия господствует над ней [22]? «Ищите Н.» Для любой вещи это еще и вопрос взвешивания, тонкое, но строгое философское искусство – плюралистическая интерпретация.
Интерпретация раскрывает свою сложность только в том случае, если принять в расчет, что новая сила может возникнуть и присвоить объект, только облачившись с самого начала в маску предшествовавших ей и прежде владевших им сил. Маска или хитрость являются законами природы, следовательно – они являются чем-то бóльшим, чем просто маска или хитрость. Только для того, чтобы стать возможной, жизни с самого начала приходится подражать материи. Ни одна сила не смогла бы уцелеть в борьбе, если бы не принимала облик предшествующих ей сил, с которыми она борется [23]. Поэтому философ способен родиться и возмужать (сохраняя при этом определенные шансы на выживание) лишь при условии, что он обладает созерцательной внешностью жреца, аскета и монаха, господствовавшего над миром до его появления. О том, что подобного рода необходимость тяготеет над нами, свидетельствует не только нелепый образ, ассоциирующийся с философией: образ философа-мудреца, друга мудрости и аскезы. В еще большей степени об этом говорит сама философия – ведь она не отбрасывает аскетическую маску по мере своего возмужания. Она вынуждена хоть немного верить в свой аскетизм и может получить власть над собственной маской, лишь придав ей новый смысл, в котором наконец проявится подлинная природа философии как антирелигиозной силы [24]. Мы видим, что искусство интерпретации должно быть одновременно искусством проникновения сквозь маску и раскрытия того, кто и почему маскируется, и понимания – с какой целью, видоизменяя эту маску, ее по-прежнему носят. Следовательно, генеалогия проявляется не изначально, ведь если устанавливать отца ребенка в момент рождения, то мы сильно рискуем исказить смысл. Различие, присутствующее у истоков какого-либо процесса, не проявляется с самого начала, исключая, быть может, те случаи, когда наблюдение ведет специально тренированный глаз – глаз, способный видеть издали, глаз дальнозоркого, глаз генеалога. Только когда философия возмужает, появится возможность постичь ее сущность, или генеалогию, чтобы отличить ее от всего того, с чем она, у своих истоков, была в высшей степени заинтересована слиться. Так обстоят дела с любой вещью: «Во всякой вещи важны лишь высшие ступени» [25]. Это не значит, что проблема перестает быть проблемой происхождения. Это значит, что происхождение, понятое как генеалогия, можно определить лишь через связь с высшими ступенями.
Нам не следует, говорит Ницше, задаваться вопросом о том, чем греки обязаны Востоку [26]. Философия возникает в Греции в том смысле, что именно в Греции она впервые достигает своей высшей формы и обнаруживает свою подлинную силу, а также цели, не совпадающие с силой и целями жреческого Востока (l’Orient-prêtre), даже когда она их использует. Philosophos означает не мудрец, а – друг мудрости. Но до чего необычен смысл, в котором следует интерпретировать слово «друг»: друг, говорит Заратустра, – всегда некто третий между «я» и «мной», подталкивающий меня к самопреодолению и к самопреодоленности ради жизни [27]. Другом мудрости является тот, кто притязает на мудрость, но так, как притязают на маску, под которой невозможно выжить; тот, кто заставляет мудрость служить новым целям, странным и опасным и на самом деле не особо мудрым. Он хочет, чтобы мудрость преодолевала себя и оказывалась преодоленной. Народ, разумеется, не может постоянно заблуждаться: он предугадывает самую суть философа, его антимудрость, его имморализм, его понимание дружбы. Смирение, бедность, целомудрие – попробуем разгадать смысл, который обретут эти мудрые и аскетические добродетели, когда философия вновь станет рядиться в их одежды, представ как новая сила [28].
Генеалогия не только интерпретирует, но и оценивает. До сих пор мы представляли вещи так, как если бы различные силы боролись и сменяли друг друга, воздействуя на почти инертный объект. Но сам объект также является силой, выражением определенной силы. Именно по этой причине