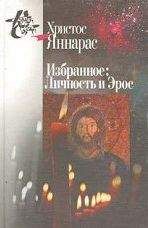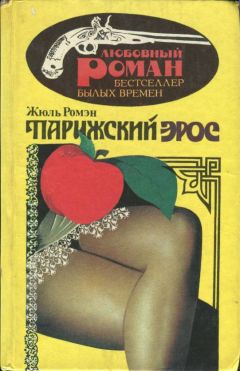В целях сравнения рассмотрим, как понимание этого формируется в мыслях современного влюбленного. В романе «Волны» Вирджиния Вулф изобразила юношу по имени Невил, наблюдавшего, как его возлюбленный Бернард идет к нему через сад:
Что-то вдруг от меня отрывается; что-то от меня уходит навстречу смутной фигуре, которая близится и еще перед тем, как я ее разглядел, меня убеждает в том, что это кто-то знакомый. Как странно меняешься от присутствия друга, даже поодаль. Какую службу сослужает нам друг, когда нас окликнет. Но как больно, когда окликнут, смажут, что-то подмешают к твоему я, сделают тебя частью кого-то еще. Вот он подходит, и я уже не Невил, но Невил, перемешанный с кем-то еще – с кем? – с Бернардом? Да, это Бернард, и Бернарду я задам свой вопрос. Кто я? [34]
Невила гораздо меньше, чем греческих поэтов, повествующих о том, как они пострадали от эроса, тревожит пустота внутри. И, в отличие от Сократа, он не прибегает к иносказаниям, описывая смятение своих чувств. Он просто наблюдает за тем, каково ему, измеряя под тремя углами: вот желание исходит от Невила, рикошетит от Бернарда и тянется обратно к Невилу; но это уже не тот Невил. «Я уже не Невил, но Невил, перемешанный с кем-то еще». Та часть Невила, которая принадлежит Бернарду, немедленно заставляет узнать Бернарда, «меня убеждает в том, что это кто-то знакомый». Как сказал бы Сократ, Бернард и есть oikeios. Несмотря на это, Невилл оценивает опыт как двоякий: друг одновременно «сослужает службу», но «как же больно». Как и у греческих поэтов, боль эта возникает у границы понимания, что твоя сущность смазана, и горечь опасно граничит со сладостью. Влюбленному ничего не остается, как признать, что двоякость ситуации хороша и плоха одновременно, но затем он осаждает себя вопросом: если я с кем-то перемешан, кто я? Желание меняет влюбленного. Он ощущает перемену, но не знает, как оценить ее: «как странно», откликается у Вирджинии Вулф Бернард. Эта перемена заставляет его мимолетно столкнуться с таким собой, какого он не знал прежде.
Согласно некоторым теориям, подобное мимолетное столкновение может быть механизмом, формирующим понятие «самости» в каждом из нас. Фрейдистская теория возводит его к фундаментальному решению «любить или ненавидеть», вроде того самого амбивалентного состояния влюбленного, расщепляющего рассудок и формирующего нашу личность. В самом начале жизни, согласно Фрейду, нет понимания того, что вещи отличны от собственного тела. Различия между собственным «я» и «не-я» проявляются в решении присвоить все, что эго нравится, а то, что не нравится, отвергнуть, как «не мое». Рассеченные, мы видим, где заканчивается наше «я» и начинается остальной мир. Самоучки, мы любим то, что можем сделать своим, и ненавидим то, что упорно остается «другим».
Историки греческой ментальности, в особенности Бруно Снелль, приспособили онтогенетическую картину мира Фрейда для того, чтобы объяснить рост индивидуальной обособленности в греческом обществе в архаический и ранний классический периоды. Согласно Снеллю, впервые формирование личности, обладающей самосознанием и самоконтролем и осознающей себя единым целым, отличным от других личностей и от окружающего мира, в греческом обществе отслеживается в момент эмоциональной амбивалентности, расщепляющей рассудок. О чем и сигнализирует употребленное Сапфо прилагательное glukupikron. Именно революцию самосознания Снелль называет «открытием духа». Эрос, которому препятствуют, стал спусковым крючком. А последствием – консолидация личности:
Любовь, которой чинятся препятствия и которая не находит удовлетворения, имеет особую власть над человеческим сердцем. Из искры живого желания разгорается пламя именно в тот момент, когда желание встречает преграду на пути. Именно препятствие и делает глубоко личные переживания осознанными… [сокрушенный влюбленный] ищет причину в собственной личности.
(1953, 53)
Работа Снелля стала сенсацией и породила множество разногласий; ее обсуждают и по сей день. Ответов на вопросы истории и историографии, которые могли привести к подобным выводам, нет до сих пор, однако предположения Снелля о роли горько-сладкой любви в нашей жизни производят впечатление тем более сильное, что оно созвучно совокупному опыту многих влюбленных. Бернард приходит к такому же выводу: «Другой человек тебя сводит к твоему единственному я – как странно».
Теряя границы
Собственное «я» формируется у границ желания, а наука о себе возникает в попытках избавиться от этого «я». Но отреагировать на щемящее осознание собственного «я», которое возникает там, куда дотянулось желание, можно по-разному. Бернард воспринимает это как «сведение», стягивание себя при помощи другого, и находит это «странным». Как странно меняешься от присутствия друга, размышляет он. Перемена не возмущает его, но и не особенно радует. Ницше, напротив, в восторге: «ты сам кажешься себе преображенным, сильнее, богаче, совершеннее, ты и есть совершеннее… И не то чтобы оно изменяло наши ощущения этих данностей, нет – любящий и вправду становится другим человеком» [35] («Воля к власти»). Довольно часто любящий куда острее воспринимает себя как личность («Я стал больше собой, чем когда-либо!» – так ощущает себя влюбленный) и ликует от этого, как и утверждает Ницше. Греческие поэты, однако, ликовать не спешат.
Для них изменение личности равносильно ее утрате. Их метафоры, повествующие об этом, – метафоры войны, болезни и телесного распада. Описываемые ими взаимоотношения – нападение и сопротивление. Предельное чувственное напряжение между собственным «я» и тем, что его окружает, – вот что оказывается в средоточии поэтического внимания, и один образ при этом преобладает. В греческой поэзии эросу сопутствует метафора таяния. Сам бог желания зовется «растапливающим члены» (LP, Сапфо, fr. 130; West, IEG, Архилох, 6). Взгляд его «[растапливает] нежнее сна или смерти» (PMG, Алкман, 3). Влюбленный, жертва Эрота, подобен воску (Snell-Maehler, Пиндар, fr. 123), тающему при его прикосновении. Хорошо ли это – таять? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Образ подразумевает чувственное наслаждение, однако часто примешивается смятение и беспокойство. Вязкость, по мнению Жан-Поля Сартра, может оттолкнуть сама по себе. Его замечания касательно феномена липкости могут пролить свет на античные взгляды касательно любви:
Именно эта текучесть меня удерживает и компрометирует; я не могу скользить по этой липкости, все ее кровесосные банки удерживают меня; она не может скользить по мне, она цепляется как пиявка. Это всасывание липкого, которое я чувствую на своих руках, дает в общих чертах картину непрерывности липкой субстанции для меня самого. Эти длинные и мягкие нити липкой субстанции, которые стекают с меня до липкой поверхности (когда, например, после того как я опустил в нее руку, я вытаскиваю ее оттуда), символизируют течение меня самого к липкому. Если я погружаюсь в воду, ныряю туда, если я плыву в ней, я не ощущаю никакого беспокойства, так как я ни в какой степени не опасаюсь там раствориться; я остаюсь твердым в ее текучести. Если же я погружаюсь в липкое, то чувствую, что начинаю там теряться, то есть растворяться в липком, как раз потому, что липкое находится в состоянии затвердевания. В одном смысле он предстает перед нами в виде высшей покорности овладеваемого объекта, покорности собаки, которая привязывается, даже если ее больше не хотят [36].
Эмоциональный («цепляется как пиявка») и едва ли не иррациональный («чувствую, что начинаю там теряться») ужас Сартра перед саморастворением имеет аналоги в изображении эроса в греческой поэзии. Тем не менее, Сартр полагает, что липкость, как и по-собачьи привязчивая любовница, может помочь понять кое-что о свойствах материи и взаимоотношениях собственного «я» с окружающим миром. Испытывая и озвучивая угрозу растаять, которую несет эрос, греческие поэты, вероятно, постигали нечто о своем ограниченном «я», борясь с растворением границ под натиском эротического чувства. Физиология, которую они приписывают эротическому переживанию, предполагает, что намерения эроса враждебны, а влияние – разрушительно. Помимо таяния в этих метафорах влюбленный оказывается пронзенным, раздавленным, обузданным, обожженным, ужаленным, укушенным, истертым, сжатым, отравленным, опаленным и раздробленным в порошок; все эти образы применяются поэтами к эросу и в совокупности оставляют впечатление серьезного беспокойства за целостность своего тела и владение им. Лишаясь ограниченной цельности, влюбленный начинает ее ценить.