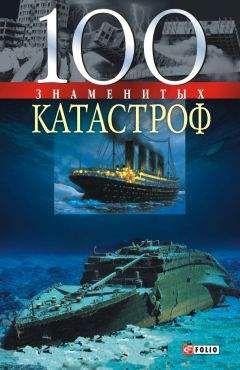— Я устал от академиков, докторов наук, льстецов на Парнасе. Хочу написать просто о женщине, о ваших тонких и нежных руках, цветах, улыбке, глазах, будничной работе, о стирке белья в прачечной, о кухне... чем жив человек и что его держит на земле.
— О боже, вы задумали комедию?
— Не знаю. Я все так объемно увидел и представил. Условимся, без вашей визы, обещаю, я никогда не отправлю материал в редакцию.
— Не знаю. Я растеряна и подавлена. Можно, я подумаю?
— Я вам оставлю свою визитку.
— Не стоит. Приходите ко мне на работу в детское отделение 1-й клиники. Каждый день, кроме выходных, с восьми до пятнадцати я там.
Они прошли не сто и не двести метров, а все восемьсот к ее пятиэтажному дому, стоящему в глубине двора, ближе к параллельной улице, напротив бывшей автозаправочной станции.
— Вот мы и пришли. Это мой дом.
— А... — оглянулся Любомир, — это ничего, что вас могут увидеть с незнакомым мужчиной?
— Нет. У меня безупречная репутация.
— Похвально. Благодарю вас и за прогулку, и за доверие.
— Я еще не сказала «да».
— Все равно спасибо. До встречи.
— До свидания, — с затаенной радостью ответила она.
Дома она поставила разогревать на плиту тушеную картошку, затем достала из-под старенького с ободранными углами, кухонного буфета кипу газет в надежде отыскать среди них «Правду». Вскоре обнаружила, перелистав их, жалкую информацию за подписью: «Собкор Л. Горич». После ужина она отправилась в ближний магазин «Кнігарня пісьменніка», в котором всегда в избытке, хоть маринуй, лежали книжки местных авторов. Без труда нашла среди книжных терриконов пачку из двух десятков книг в броской чернобелой обложке с его фамилией. Купила одну. В книге были исключительно публицистические статьи, датированные семидесятыми—восьмидесятыми годами.
Уютно расположившись у кухонного окна (Август по обыкновению дремал у телевизора), она жадно углубилась в чтение и вскоре разочаровалась. Было и остро, и метко, и смело, и характеры запоминающиеся, но она ожидала большего. Эти знакомства на улице — всегда непростительная глупость. «Не будь овцой, а то волк съест», — вспомнила почему-то слова старшей сестры.
Муж, отвернувшись к стенке и укрывшись по уши одеялом, спал. Она выключила свет и осторожно, как мышка, юркнула под свое тоненькое одеяло. Окно украшал огромный диск луны в расцвете полнолуния. Бледный свет падал на проигрыватель в углу, книжный шкаф, отчетливо высвечивая огромный семейный портрет: мать, отец и они, две сестры. Отец в военной форме с тремя орденами Славы на груди. Красивая мама в нарядной белой блузке. Одеты скромно, но празднично. Давно она так глубоко перед сном не задумывалась, осмысливая прожитый день. Жизнь словно бы расширилась, раздвинулась. В который раз возвращалась мыслями к мимолетной, сумбурной встрече с корреспондентом, отметив не без гордости, что хотя она и выслушивала его с жадностью и любопытством, но в глазах и ответах не было угодливости и робости. Вспоминала без каких-либо надежд, иллюзий, потаенных желаний. Предчувствия, что эта встреча резко изменит ход жизни, еще не было. Ее отзывчивая душа, лишенная на протяжении всего замужества мужской любви, заботы и ласки, была относительно спокойна.
— Окно на кухне закрыто? Нет сквозняка? — запоздало опомнившись, сквозь сон спросил Август.
— Закрыто, закрыто. Спи! — успокоила она.
Он быстро, как кот лапой, почесал пятернею свои густые черные волосы и затих.
Она уснула под шум скандала, доносящийся сверху: агрессивная и оборотливая бабенка Лера — страховой агент, в который раз «ремонтировала» своего аморфного непутевого мужа-пьянчужку Миколу.
Наконец они встретились. Николай Иванович воротился из Москвы- матушки — он любил ее как истинно русский, — в приподнятом настроении. Немало передумал. Ведь не в санаторий левадийский ездил, а в психушку.
Все оказалось на удивление по-домашнему, естественно и не страшно. И у людей в белых халатах нет изначальной подозрительности. Его поместили в отдельную палату, не брали на испуг, а очень деликатно наблюдали, беседовали, просили отвечать на всевозможные тесты и, надо сказать, сытно кормили. Он свыкся с атмосферой, словно бы и не чувствовал, что живет под пристальным, неназойливым наблюдением. Почувствовал, что заметно улучшилось душевное состояние. А то ведь местные спецы, усиленно навязывая ему обследование, определили чуть ли не вялотекущую шизофрению. За день до отъезда долго беседовал с милейшим, несколько болезненного вида Снежевским. Прощаясь, именитый академик подтвердил, что они не видят в психике заметных отклонений, что имеющиеся особенности личностного плана не могут быть отнесены к заболеваниям и не препятствуют вождению автомашины. Из-за этого«можно водить — нельзя водить» — и разгорелся весь сыр-бор в минской поликлинике спецмедосмотров. «Каков окончательный диагноз?» — «Сутяжный синдром». Николай Иванович не знал и не мог знать, что всякий раз его гражданская активность, отправка телеграмм-жалоб, писем-протестов в советские, партийные органы и даже в прокуратуру республики не оставят без внимания, контролируют и фиксируют в картотеке психоневрологического диспансера.
Это была последняя встреча с доктором. Чувствовалось, что какая-то невидимая болезнь подтачивает силы академика, он устал, сказал, что один экземпляр заключения выдает Николаю Ивановичу на руки. «Желаю вам успехов. По-человечески солидарен и завидую вашей настойчивости и смелости. Все, чем могу», — были последние слова доктора. Едва сдерживая слезы благодарности, Барыкин произнес тихо: «Спасибо».
По возвращении тотчас же позвонил Любомиру. Корреспонденту в четвертый раз отказывать было против всех правил. До прихода Николая Ивановича оставалось два часа двадцать минут, и Любомир решил уделить их взбалмошной и напористой «Капризной» для «очень, очень, очень важного, жизненно необходимого разговора». Все равно не отстанет. «Надо решиться, наконец, и покончить раз и навсегда с этой связью, вспыхнувшей в минуту слабости. Духовное развитие ее остановилось где-то в начальных классах. Кроме секса, одежды, балдежа да кутежа «на халяву», ее, в сущности, ничто не волновало и не тревожило. «Государство, как орудие насилия, тем не менее, не мешает мне быть свободной и независимой в сексе», — повторяла она услышанные от кого-то слова. Он стыдился показываться с ней в кафе, в маленьких полуподвальных закусочных, опасался, что она опозорит непристойной выходкой, грубым матерным словом и его, и себя. «Ну, ты прямо засекречен, как спутник, — сетовала она, когда он в спешке увозил ее на такси к ее подруге (или другу). — Прощаю, ладно. Потому как мне сладко в твоих темпераментных объятиях. Не знаю, как насчет гениальности в журналистике, я не читаю газет, но в сексе ты король». Его удивляло, как человек с такой примитивной эрудицией, работая экскурсоводом, может говорить что-то людям об истории города, знаменитостях, культуре.
— Во-первых, все приезжие, пусть они будут из Прибалтики, Азии, Голландии, — полные болваны в нашей истории, — находился у нее ответ. — Во-вторых, туристов, какого бы роду-племени они ни были, не интересует, кем построено это здание, в котором расположен магазин, а интересует, что в магазине. Узбеки покупают детские вещи, смоляне — харчи, литовцы — запчасти к автомобилям и ткани, поляки и евреи — золото. Меня никогда не спрашивали: сколько получает рядовой сборщик на тракторном заводе, но интересовались, где то место, где поляки сбывают товар. Все едут готовенькие, заранее уважая белорусский народ, сочувствуя его жертвам в Отечественную войну, а теперь еще разделяя чернобыльскую беду. Я их статистикой между глаз: сколько холодильников, тракторов, метров ткани, стиральных машин, в минуту, в сутки, и у них уже уши лопаются от избытка информации. До конца тему не раскрывают. Отвожу им час, два на ГУМ, ЦУМ, «Синтетику», «Электронику», — кстати у меня там связи, могу тебе устроить портативный цветной телевизор «Шилялис», — так вот, а сама бегу к тебе. Знакомый в кооператив приглашает. Восемьсот рублей обещает чистыми. Бутербродами торговать. Они скупают в столовых на окраинах продукты и продают втридорога в центре. Не хочу. Вкалывать надо. Мне дорого свободное время.
Одета она была вызывающе-броско, любила яркую деталь на шее, на голове. Уставилась своими маленькими, хитрыми, как у гадюки, глазками, прямо ему в переносицу:
— Я знаю. Это начало конца. Ты охладел ко мне. Не звонишь, не ищешь встречи. Не оправдывайся... я знаю. Как ты говорил, что там на кольце Соломона было написано?
— Все проходит.
— Вот именно. Не хочу реанимировать. Оставим все в зените. Жаль, мы не дотянули до пика. Я еще не исчерпала своих возможностей.
— Все еще впереди. Не удалось пока найти шведа?
— В нашу задрипанную республику шведы не ездят. Мои подруги-сику- хи налетали, брали живьем австрияков в Жодино, итальянцев в Гатово. Там кожевенный завод строят. Мелочевка. Шуму много, а привезли всего по сотне долларов, консервированных сосисок, пива, жвачек, одну-две джинсовые юбки. Опуститься до их уровня, значит подписаться под словом «проститутка». Я еще пока держусь, обхожу стороной негров у общежития политехнического. И потом, ехать в Жлобин не с руки. Там меня с детства каждая собака знает. Все, — она закусила свои пухлые губки, — хочу, чтобы ты запомнил меня неповторимой. Сегодня я обниму тебя в последний раз.