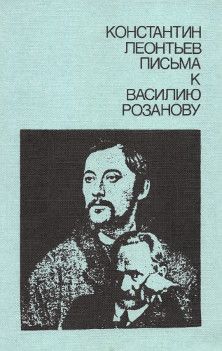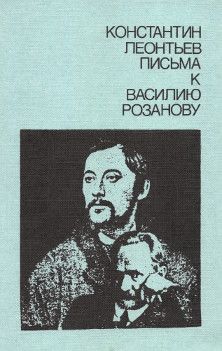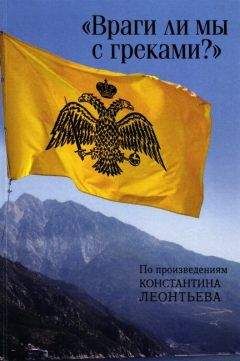31
Как это хорошо выражено, мотивировано. Действительно, философ внешний куда-то тащит мою душу. Вот отчего настоящие философы мало читают других философов (Кант, Декарт, Бекон знали историю философии слабее посредственных профессоров своего времени). Настоящий оригинальный и сильный ум, ум именно философский, не станет (больно будет) читать другого настоящего-же философа, разве изредка и несистематически», хотя мыслить сам вечно будет (наслаждение). Напротив, пассивный ум, мертвый, не оригинальный — будет сколько угодно читать философов, и философий. Кто бы меня ни потащил, — со всяким пойду». От этого иногда профессор-медик, профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с призванием к философствованию и философии. Но никогда этим не бывает «читающий философию профессор». Они в смысле философском — потерянный материал.
Брошюры я ему послал с намерением, чтобы он прочел (легко, на интересные темы), а книгу О понимании — только из вежливости. Куда в 60 лет читать волюмы. Но как наивно, и детски чисто это.,В. В. рассердится, что я его не читаю». Да почти все мои личные друзья и посейчас не раскрывали этой книги. Вообще писатели не весьма много читают, и это — не без основания, и даже — не худо. Читатель пусть будет именно читатель, а писатель — писатель, а смешивать два эти ремесла вовсе не к чему. Ведь какая жалость выходит, когда не урожденный писатель начинает «писать». То же можно представить себе и относительно настоящего, т. е. жадного и обильного, плодотворного чтения.
Да, я не ошибся, избрав названием книги «понимание» и слив с ним философию. Какая в самом деле разница между «знать» и «понимать»! Последнее — это точно дух какой-то ворвался в факты, в знания, и счленил их в организм, в философию! «Эврика» (=нашел, догадался) — вот девиз философии, восклицание философа; «вижу» земляного Вия (у Гоголя) — глас эмпирика и эмпиризма. Книга О понимании (737 стр.), через два-же месяца по отпечатании, была осмеяна (рецензентами, очевидно и не прочитавшими ее) в двух журналах, Вестн. Евр. и в Русск. Мысли, и, не имея еще о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять назад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды; по 30 коп. за том (вм. 5 руб.), подумав: «sic transit gloria mundi». На ее напечатание я все время учительства откладывал рублей по 15–20 в месяц, уверенный, что она делает эру в мышлении.
Да, это все глубоко истинно и чисто! Переписка, письма — золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем.
Или здесь — ошибка Л-ва, или г. Ионин очень недолго подписывался этим псевдонимом. Spectator в «Русском Обозрении», по крайней мере 90-х годов, вовсе — другое лицо, не Ионин.
Ниже идут везде замечания на посланную (и посмертно напечатанную) рукопись: «Эстетическое понимание истории». В начале ее сделан был очерк его теории «триединого процесса», о котором он выше говорил, и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и заметки о его личности. В них, между прочим, я упомянул, что Л-в «стремился в центры деятельности (т. е. столицы), но всегда от них был (fatum) «отталкиваем» (в провинцию глухую, в турецкую «заграницу»).
Поразительно! В ней-то и главная суть Л-ва; без нее — его просто нет. Здесь сказывается поразительная тупость наших философских и историко-философских кафедр, а также наглость и поверхностность нашей публицистики, наших публицистов. В печати у нас ругаются собственно, а не думают; или защищают «лицо», протаскивают «идейку», — но идейку, как голый тезис, как краткое требование.
По Л — ву, когда растение, животное, человек, государство, культура переходят через зенит, движутся и склоняются к смерти, то происходит в нем «предсмертное смешение элементов», как бы упрощение всего вида, лица умирающего предмета. Государство становится просто, религия — проста (рациональна, бедна культом), наука — эмпирична (=проста же) и т. п. Механизм растаивает, морфология живого тела — спадается. Отсюда Л — в видел в падении классов, в обезличении сословий признак падения европейских обществ; и отсюда, только отсюда — вытекал «аристократизм» тенденций этого бедного и скромного человека, этого бескорыстного (лично) человека.
Как бедный, подбирает все даже только возможные отзывы печати, — и не о себе, а о лекции, на которой его теория была упомянута! Тут даже какая-то неопытность: ну, и «отозвались» бы газеты, напечатали бы по столбцу репортерских отчетов: и все бы их на утро прочли, попомнили до обеда, а к ужину — забыли. Ничего не сделали для памяти Л-ва даже обширные статьи в либеральнейших и ходких журналах.
Т. е. они все три были, напр., бессословны: Катков громил польских магнатов, Аксаков — остзейских баронов; оба — по косвенным (руссо-фильским) мотивам, но это — все равно. Л — в стоял и за магнатов, и за баронов, как за сильную орду в Казани, «от которой Россия (в Москве) много хорошего переняла» (в одном месте он так говорит), и по мотиву даже совершенно бескорыстному: все это — разнообразило общерусскую жизнь, все это было выразительно и исторически красиво.
Везде Л-в судит, как философ, воображая, что корифеи публицистики, им названные, то «удалялись» от теории «предсмертного смешения», то «приближались» к ней. Они просто писали, что сегодня надо, а до лекций Астафьева или книг Л-ва им и дела не было.
В отличие от «первичной слитности», детской простоты существования. Напр., в нации сословий, классов так-же нет в эпоху Рюрика или Ромула (первичное смешение элементов), как и в эпоху Каракаллы {вторичное у простительно смешение), объявившего всех жителей необъятной империи равно «cives romani».
Я Л-ва упрекал в письме, для чего он взял к книге своей «Восток, Россия и славянство» эпиграфом слова из какой-то статьи Вл. И. Герье, профессора истории в московском университете, — слова совершенно обыкновенные, где воздается некая (небольшая дань) консерватизму; и для чего он посвятил книгу Т. И. Филиппову, человеку, о котором я не имел причины что-нибудь дурное думать, но который был тоже человеком обыкновенным. Необыкновенность книги Л — ва, казалось, потускнялась и этим сереньким эпиграфом, и этим сереньким посвящением.
Т. е. практических. Во 1-х того, что Л — в стоял за константинопольский патриархат против «болгарской схизмы» (нациоаналь-ного болгарского от греков освобождения, вопреки «каноническим правилам»), и, во 2-х, что Л-в ценил и любил наше старообрядчество. О К. Н. Леонтьеве мне неоднократно приходилось говорить с Т. И. Филипповым, но ни однажды я от него не слышал не только одобрения, но даже и упоминания об его «триедином процессе», т. е. корне всех отрицаний и утверждений Л-ва. Кстати, о «болгарской схизме». Известно, что в начале и в середине 19-го века греки, видя пробуждающееся национальное сознание болгар, истребляли письменные и вещественные памятники их истории, вообще их национальной личности. Все это было на глазах первых болгарских грамотеев, первых их ученых, священников, учителей, вождей народных. Болгары все это «сложили в сердце своем» и, как только обстоятельства сложились благоприятно, — потребовали «национализации церкви». Но, по древним церковно-каноническим правилам, «в одном городе не может быть двух православных самостоятельных епископов», ибо этим нарушался бы «закон любви христианской». Для чего болгарам свой епископ, положим, в Филиппополе или Адрианополе, когда там есть уже епископ грек той же православной церкви. Епископ-грек, который раньше без зазрения совести жег болгарские манускрипты, — едва болгары начинали просить себе «своего епископа», начинал ссылаться, что по постановлению такого-то вселенского собора, «этого быть не может, ибо этим нарушается евангельский закон любви, закон единства церкви, не знающей разделений национальных и государственных». А когда болгары все-таки национальной церкви добились, то патриарх константинопольский, за нарушение ими канонических правил» объявил весь болгарский народ состоящим в «схизме», т. е. «в ереси». Пример этот ярок и важен, чтобы показать, как «правила любви» (?!) мало-помалу трансформировались в какую-то работу стряпчих над текстами о любви; и из них мало-помалу сплелась удушительная веревка, тем более ненавистная, что она вся намылена «любовью» и особенно ловко обхватывает шею удавленника (в данном случае — болгар, но при случае и всякого другого).