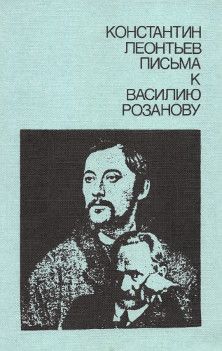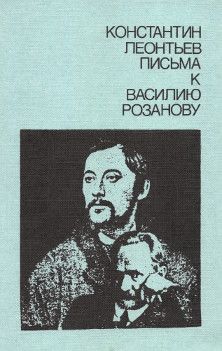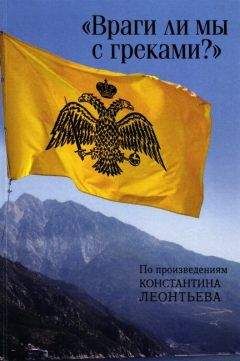45
Я Л-ва спрашивал в письмах, не имел ли он (т. е. через идеи свои) влияния на известный поворот русской политики, начиная с 81-го года. Но, очевидно, практические русские государственные люди еще менее его перелистывали, чем Аксаков, Катков или Гиляров.
Примечания — к рукописи статьи моей: «Эстетическое понимание истории».
На слова статьи: «в желчных строках Достоевского (в посмертно напечатанной Записной книжке его) о Леонтьеве сказалась какая-то ненависть. Напротив, Вл. Соловьев, не слишком склоняющий слух к тому, что против него говорят, на этот раз внимательно поправился».
Знаменитую «Речь при открытии памятника Пушкину в Москве». Как эта речь, так и последние любящие рассказы Л. Н. Толстого, начиная с Чем люди живы, вызвали одну из самых блестящих и мрачных брошюр Леонтьева: «Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». Но уж если «изменой христианству» показалась Леонтьеву «любовь» названных писателей, призыв их к «братолюбию», — то чем могло бы показаться, в отношении к христианству, «алкивиадство», «красивые страсти» самого К. Н. Леонтьева? Тут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: нравственность, братолюбие, или некая мистика, при коей «братолюбие» и не особенно важно?
Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем.
Печатаем эти слова Л — ва, как документ мышления уже умершего человека, которое не может пробудить ничего живого в живых.
Сохраняем все это, как документ, — как сам Толстой обнародовал грубые и жестокие к нему письма за два последние года. Все это — живая история, страниц которой (никаких) не следует вырывать. «Что было — было» принцип истории.
На слова мои: «Л-в, очевидно, сжился с миром художественного творчества Толстого, и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает».
На слова: «Почти невозможно не согласиться с взглядом его (Л-ва) на Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали в последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить».
К словам: «Психологический анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование.
На слова: «В одном только — в национальности Толстой встречает некоторое препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, может ли, но очевидно, не хочет переступить».
На слова: «Толстой любит унижать своих героев, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда сами они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, ощипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый».
На слова: «Л — в тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе».
На слова: «Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной, в литературе, школы».
На слова: «как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в теперешнем поколении, — и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительнсоти, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки». -Берем эту большую выписку, ибо восклицание Л-ва здесь закрепляет наблюдение чрезвычайно важного психического перелома конца 80-х и начала 90-х годов нашей общественности.
На слова: «Вековые течения истории и философии — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их — вот что сделается предметом нашей главной заботы. Политика, в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия, как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души, — такова цель, неудержимо влекущая нас к себе».
На слова: «Из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни, как историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл исторического движения в 19-м веке, преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений, как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной идее».
На слова: «Мы остановились так долго на сдерживающем единстве в жизни человечества и его отдельных наций, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил».
Слова: «Гоги и магоги, finis mundi» и т. д., очень напоминают известное чтение Вл. Соловьева «О конце всемирной истории и Антихристе». Главное — тоном напоминают, грустью, безнадежностью. Указание на роль китайцев, как будущих завоевателей России, сливает воззрения Соловьева и Леонтьева до тожества. Близкие друзья, они, конечно, не раз говорили «о будущем», по свойственной русским привычке; о приоритете мысли, чувства тут не может быть и речи, да он вообще и не интересен, кроме как для библиографов-гробовщиков. Леонтьев на 10 лет раньше сказал ту мысль, которая зашумела из уст Соловьева (опять fatum). Но вот что следовало бы заметить обоим мыслителям. В противовес «опустившимся рукам» у них обоих, какая энергия предприимчивости у «мечтателей» — Достоевского, Толстого! «Розовое христианство», «розовые христиане», — бросил им упрек обоим Л-в в желчной брошюре своей: но, если это «новое» христианство дает обоим им силы жить, то не очевидна ли некая доля истины в нем? Ибо невозможно жить из лжи, а только можно жить из истины. «Розовое христианство» двух наших реалистов-романтиков (Дост. и Толст.) не есть ли с тем вместе «христианство, возвращающееся к Древу Жизни» (см. у Л-ва о нем) на место «христианства, связанного только с Древом Познания» (схоластика, ученость, догматизм)? Оба они, и Соловьев, и Леонтьев, и были связаны до излишества с «Древом Познания»; отсюда их пессимизм, уныние. А эстетизм Л-ва, его «алкивиадство», как юный листочек, как молодая почка пробуждающегося Древа Жизни, от того, несмотря на монашество, так крепко и держалась на нем, а он сам в себе более всего ее любил, — что это-то и было залогом спасения и исцеления для них обоих, и Соловьева, и Леонтьева. Соловьев так рано и грустно умер от того, что в нем вовсе не было (?!) этой почки Древа Жизни; а Л-в все-же прожил до 60 лет, и даже (как мне пишет) был «веселый и, наконец, не без легкомыслия человек». Есть «воды живые» и «воды мертвые», это надо помнить, как комментарий к «Древу жизни» и «познания».
Какая, «врожденная» потребность писать и почти полувековое абсолютное невнимание общества к писателю, почти полная его нечитаемость! Миф о «муках Тантала», я думаю, никогда еще не имел для себя такой иллюстрации, как в этом своеобразном русском писателе с своеобразною, поразительною судьбою.