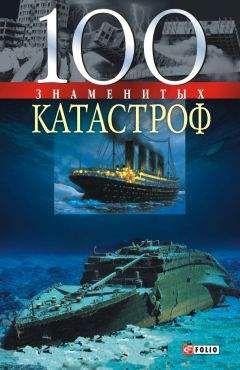Похвалили озеро, повосхищались прелестью заката, белизной лилий, выразили удовлетворение чистотой воздуха, но вскоре перешли к более волнующему и интересному. Они относились к тому типу людей, которые не умели, а может, не хотели, расслабиться. Продолжали жить проблемами работы, в последние годы уступавшей место исключительно политике и всему, что связано с ней. Постепенно разговор завертелся вокруг необыкновенного события, которое произошло у памятника Янке Купале. Несанкционированный митинг провели активисты БНР и некоторых других неформальных объединений и групп, которые не боялись властей, заявляя о своем рождении критикой идеологии, партии, коммунизма. Ненависть в их чувствах еще не поселилась, но пренебрежение и высокомерие уже дали всходы.
— Что могу сказать? Народ наш всегда до слухов охоч. Помните, у Высоцкого? Это была чисто гражданская акция. Нечто похожее на общественную панихиду. Всех, правда, собрали в одну кучу: и будущих жертв Чернобыля, и поэта, и убиенных в сталинских лагерях. Противоправных, противозаконных действий не было. Просто нас шокирует новизна. Мы отвыкли от стихийных, неорганизованных митингов и шествий.
— Согласен. Но ведь слышались провокационные призывы: «К ответу партийное руководство республики!» Требование полной правды и защиты населения пострадавших от аварии районов, — важничал Иван Митрофанович.
— Моя дочь была на этом митинге. Злость. Ненависть. Будущие подстрекатели и провокаторы беспорядка. Напрасно вы, Валерий Валерьянович, уж больно спокойно реагируете. Дай им волю, они начнут вскорости и вашу организацию щипать, да еще как, — поддержал друга Злобин.
— Мы контролируем обстановку. Наша система не подвластна временным веяниям и коррозии дестабилизации. Общество должно учиться плюрализму, так думаю.
— Да нет. Оплевывание идеалов отцов и дедов. Кощунство над самым святым... Это надо пресекать. Если каждый начнет в своих бедах искать виновных... Хаос и братоубийственная война, — решил выглядеть радетелем советской власти Злобин.
— Мы отходим от идеологии. Призывов к свержению государственного строя не было. Если сам генеральный секретарь да остальные высокие мужи не прочь поупражняться в критике. Персонально обидели, незаслуженно — подавайте в суд. Каждая партия на Западе борется за свою честь и достоинство.
— Не хватало мне с сопляками-недоучками судиться. Два еврейчика заводят толпу, и это называется плюрализм, — рассердился и надулся то ли от водочки, то ли от чванства Иван Митрофанович.
— Там были не только евреи. Выступали и белорусы.
— Они требуют от меня покаяния. За то, что я с родителями после войны жрал лебеду и получал на трудодень шиш. За то, что я сад, выращенный отцом, порубил, чтобы с матери налоги не брали. За то, что я и сейчас ровно в девять в кабинете и редко когда ровно в девятнадцать дома. Разве что в футбольные дни.
— Очевидно, Иван Митрофанович, они считают, что неважно, какой дорогой ты шел, важен общий результат. И я не верю, что они — неврастеники, полупижоны — смогут составить когда-нибудь конкуренцию партии своими неформальными организациями.
— Да глупости. Партия семьдесят лет создавала свои структуры, поддерживала организованность. Это самая передовая и мобильная сила общества, — с напускным спокойствием провидца говорил Горностай.
— Я приказом предупредил, чтобы ни один студент моего вуза не участвовал в этих несанкционированных сборищах. Ждать чего-нибудь путного от этих петухов — самообман. Национализм разрастается бурьяном в университете и театральном институте, — резюмировал Злобин.
— А вот любопытно мнение глубинки, так сказать, людей от сохи, без комплексов, — Иван Митрофанович повернулся к председателю колхоза, — скомпрометировала ли себя партия коммунистов в такой степени, в какой это раздувается?
Председатель откашлялся, вытер тыльной стороной ладони рот:
— Без партии нельзя. А воду кто мутит? Отдали газеты да телевидение евреям — они и распоясались.
— Вот, КГБ, куда вы должны обратить взоры, слушать, что делает простой хлебороб, — с живостью поддержал председателя Иван Митрофанович, — к сожалению, народ наш темный в политическом отношении. Существует государство — будут партии и будет власть. На нашей памяти сколько уже политических убийств? А сколько еще будет! Допустим, заняли наши кабинеты демократы, социал-демократы, христиане, масоны... и что же, разве у них не будет своих латышских стрелков? Не будет машин, охраны, привилегий? Будут! — Иван Митрофанович застыл с выразительной миной.
— Отец как-то мне толково сказал, — напомнил о себе подполковник, — долго, говорит, живет та власть, которая успевает замечать и решать жалобы и беды народа до того, как их сам народ вынесет на площадь. Горбачев, мне кажется, разгадал трагедию статичности и мертвечины.
— Кто же против лидера? Среди нас таких нет. Мы против шельмования партии как таковой. — Ивану Митрофановичу развивать мысль дальше уже не хотелось, да и шашлык дошел. Давненько они не едали такой вкуснятины. Мясо таяло во рту даже без помощи коньяка. Никто не угадал, из какого мяса этот редкий на вкус шашлык. Сверхдовольный председатель открыл тайну. Вчера в Березинском заповеднике его люди уложили двух кабанчиков, и уже дома жена вымочила свеженину по своему рецепту. Председатель рад был стараться, чтобы угодить гостям, раздобыл бы и страуса. Отрабатывал. До того еще подарки и провиантом, и деньгами были вручены кому следует. Сына его зачислили в Институт экономики студентом первого курса сравнительно легко. По чужому аттестату медалиста. Единственный экзамен сдавал подставной человек. Уплетали шашлык молча. Было не до разговоров. Не переставали подхваливать председателя. Дорофеенко очень опьянел. От волнения, усталости, переживаний решил отличиться чем- нибудь глубокомысленным:
— Всякое живое существо за жизнь сражается до конца. А из всех живых существ рыба самая безобидная. Нет ни ног, ни крыльев, штоб от человека убегти. Жалко.
— Чего жалеть! — взялся поучать его ректор. — Пущай на Бога обижаются. Человек должен убивать, чтобы жить.
— А вегетарианцы? Монахи?
— Позеры.
Обильная еда и спиртное тянули в сон. Вполглаза посмотрели программу «Время» и улеглись. Две старые тахты отдали Ивану Митрофановичу и подполковнику. На широкой деревянной кровати нашел приют своему внушительному животу Злобин. Председатель уехал ночевать к себе домой, пообещав, что, как и просили гости, в пять утра поднимет их на рыбалку. Бедному Дорофеенко досталась раскладушка, которую он вынужден был поставить в просторных холодных сенях, где нашли пристанище сотни голодных комаров. Искусанный до пят, измученный бессонницей, он под самое утро убежал «нести муку за дело ректора» в еще хранящую остатки тепла баню. Напрасно наивный председатель мягкой рукой влюбленного постучал ровно в пять минут шестого. Никто на его зов не откликнулся. Более того, зав. кафедрой, который спал на полатях за печкою и один из всех вышел по нужде во двор, недовольно предупредил:
— Не надо будить. Хрен с ней, с этой рыбой. К обеду подготовь по килограммов пять на брата, и весь сыр-бор.
— Подготовил уже. Угри каждому и сазаны.
— И молодец. Пивка часам к десяти привези.
Подавив мелкотравчатый гонор, председатель все исполнил в срок. Есть не хотелось. Похмелились пивком. Загрузили в багажники рыбу, мешки со спелыми яблоками. Константин Петрович Злобин, улучив момент, сумел выяснить у сотрудника спецслужб интересовавший его вопрос.
Редко, но бывают дни, когда человеку все удается. Любомир знал, что Олеся вот уже несколько дней работает на новом месте — участковым врачом в детской поликлинике. Новое семиэтажное здание, в котором разместили поликлинику, приятно удивило его. Вместительные лифты, богатство зелени в просторном холле, модернизированная система информации, пристойная мебель, приветливые регистраторши. Он нес к ее кабинету № 22 скромный букет бледно-желтых роз, которые купил в государственном цветочном магазине недалеко от поликлиники. В уютном небольшом кабинете за столом сидела широколицая, с неброскими чертами медсестра, которая на его вопрос об Олесе мягко ответила, что доктор Якунина до двенадцати на вызовах, а с двух будет в поликлинике. Ответом он был слегка раздосадован: уж больно хотелось видеть ее.
— Передайте, пожалуйста, доктору эти цветы.
— От кого? — без улыбки спросила медсестра.
— От... скажите: от капитана подводной лодки.
До двух оставалось сорок пять минут; он решил подождать ее на улице. Правду говорят: разлуку лечит поцелуй. Он, спрятавшись за ствол красавицы ивы, окликнул ее. Под длинными ветвями, которых еще не коснулась рука осени, заключил ее послушное тело в объятия. Они без слов выбрали эту верную форму проявления чувства — поцелуй. Она сделала шаг назад, к дереву, оперлась на ствол и замерла.