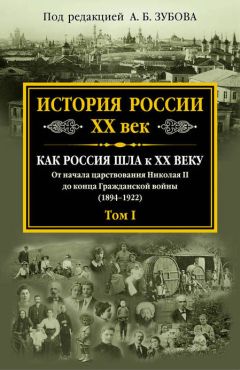Разумеется, прямого заимствования тут быть не могло: когда Крижанич умер, Петру было всего четыре года. И книга его так и не была в 1680-е опубликована, хотя, по словам Ключевского, и читали ее «наверху, во дворце у царей Алексея и Федора; списки ее находились и у влиятельных приверженцев царевны Софьи [Сильвестра] Медведева и князя В. Голицына; кажется, при царе Федоре ее собирались даже напечатать»96 Но и всемогущий в ту пору Василий Голицын не смог пробить её через церковную цензуру. Так и осталась она в XVII веке первой, быть может, ласточкой будущего самиздата. Можно предположить одно. В годы юности Петра идеи Крижанича были уже так широко разлиты в московитском воздухе, что даже не особенно чуткий к идеям молодой царь не мог избежать их влияния.И это означало, что колокол звонил по Московии, отвергшей Крижанича. А для России предвещал он новые европейские поколения, а значит и Пушкина, и декабристов, не говоря уже о Лобачевском или Менделееве. Подумать только, что всех их могло и не быть, не пересекись в критической точке на исходе XVII века европейские идеи Крижанича с великой энергией Петра!..
Как бы то ни было, для нас с читателем означает это, что рухнул на наших глазах еще один «особняческий» миф современных российских «восстановителей баланса». Я, конечно, имею в виду миф о том, что, лишь отрезавшись от Европы и выбрав особый путь в человечестве, Россия может добиться высшего расцвета своей культуры и могущества. Опыт Московии XVII века свидетельствует, как мы видели, о чем-то прямо противоположном.
В.О. Ключевский. Цит. соч., т. з, с. 252.
Там же, с. 254.
ТРЕТЬЯ
Метаморфоза Карамзина
глава четвертая «Процесс против рабства»
глава пятая восточный вопрос
глава шестая Рождение наполеоновского комплекса
глава
глава первая вводнэя
глава вторая Московия, век XVII
глава седьмая Национальная идея
глава третья Метаморфоза! 127
Карамзина
Карамзин однажды при нас стал излагать свои парадоксы. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня клеветником, Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души,
А.С. Пушкин
Мы спрашивали себя, как удалось России вырваться из безнадежного, казалось, московитского тупика. Здесь ожидает нас вопрос еще более сложный: как случилось, что век с четвертью спустя после эпохального петровского прорыва в Европу страна опять соскользнула в новый, неомосковитский, тупик?
И прежде всего предстоит нам выяснить, было ли это роковое соскальзывание фатально предопределено, как думают «восстановители баланса в пользу Николая», или оказалось оно результатом жестокого конфликта идей и интересов, исход которого был для современников неясен? Конфликта, в котором вдобавок роль европейских событий была ничуть не менее, а может быть, и более важна, нежели тех, что происходили внутри страны?
Это принципиальный вопрос и важность его невозможно переоценить. иВо сталкиваются здесь два взаимоисключающих представления об истории. Напомню хотя бы мысль Юрия Михайловича Лотмана, что «современного историка начинают интересовать события не сами по себе, а на фоне поля нереализованных возможностей», где «непройденные дороги такая же реальность, как и пройденные». В результате Клио, муза истории, «предстает не пассажиркой в поезде, катящемся от одного пункта к другому, а странницей, идущей от перекрестка к перекрестку и выбирающей путь».1
Именно эта разница и делает мои разногласия с «восстановителями баланса», боюсь, непримиримыми. Для них история не имеет сослагательного наклонения. Что было, то было и быльем поросло.
Ю.М. Лотман. Карамзин, Спб., 1997, с. 635.
И поэтому «если бы», т.е. анализ политических ошибок, совершенных на том или ином перекрестке истории, занятие пустое: «не- пройденные дороги» относятся к жанру научной фантастики. А для меня они лишь «нереализованные возможности». И при другой комбинации политических сил на каком-нибудь из грядущих перекрестков возможности эти вполне могут быть реализованы. Короче, для «восстановителей баланса» история есть лишь наука о прошлом, а для меня — еще и о будущем.
А если говорить о российской судьбе, то ведь согласившись, что все московитские провалы страны в прошлом были фатально предопределены, мы попросту лишаем себя возможности разглядеть впереди те новые перекрестки, где истории-страннице опять придется выбирать путь России. Ведь в том, что ожидают еще её новые исторические перекрестки — будь то с новым Петром или с новым Николаем — едва ли кто-нибудь усомнится после пяти столетий столь драматических метаморфоз. Так хотим ли мы снова лишить себя возможности выяснить, от чего, собственно, зависит выбор нашей истории-странницы? Хотим ли, чтобы и новая метаморфоза застала нас врасплох? Хотим ли, короче говоря, оказаться в плену фатализма, беспощадно высмеянного еще два с половиной столетия назад Вольтером в бессмертном «Кандиде»?
Похоже, впрочем, что самый известный из отечественных «восстановителей баланса» Б.Н. Миронов не читал не только Гоголя, но и Вольтера. Иначе не подставился бы так простодушно, формулируя своё кредо «каждая стадия в развитии российской государственности была необходима и полезна в своё время».2 Почему бы уж прямо не сказать, подобно вольтеровскому Панглосу, что всё к лучшему в этом лучшем из миров? Ведь послушать Миронова, так и опричнина, укоренившая в России режим самодержавия и традицию тотального террора, тоже была в своё время необходима и полезна. Также полезна, как страсти правления Павла I, «сие царствование ужаса», по словам М.Н. Карамзина, не говоря уже о гекатомбах жертв террора сталинского.
Нет сомнения, что, несмотря на всё свое пристрастие к самодержавию, даже Карамзин с презрением отверг бы такой фата-
2 Б.Н. Миронов. Социальная история России, Спб., 1999. т.2, с. 182.
лизм, свидетельствующий, помимо всего прочего, еще и о странном отсутствии у автора нормального нравственного чувства. Отверг бы не только потому, что был европейски образованным человеком и Вольтера читал, но и потому, что видел русский террор собственными глазами. Видел, как Павел «захотел быть Иоанном IV [и] начал господствовать всеобщим ужасом... считал нас не подданными, а рабами, казнил без вины... ежедневно вымышляя новые способы устрашать людей».3 Впрочем, и Карамзин, как мы скоро увидим, не сделал из страшного павловского опыта (который, по его же словам, был лишь повторением террора Грозного царя) очевидного, казалось бы, логического вывода: неограниченная власть соблазнительна для тирана и потому самодержавие чревато террором как зерно колосом. Чревато, стало быть, и новыми провалами в историческое небытие.
Так или иначе, разобраться в том, был ли очередной, николаевский провал в новую «Московию» фатально предопределен или был он результатом поражения одних и победой других политических сил, важно для понимания не только прошлого, но и будущего страны. Вот, собственно, и всё, чем намеревался я предварить наш разговор. Разве что нужно еще объяснить заголовок, который я выбрал.
Глава третья
Метаморфоза Карамзина Г~| л п ли л 1л i/n
* I 1ш1сМИКа Это важно потому, что без
такого объяснения читатель может, чего доброго, принять полемику, пронизывающую это эссе, просто за внутрицеховой, так сказать, «спор славян между собою», интересный разве что специалистам по русской истории первой четверти XIX века. Я говорю здесь, конечно, не о споре с «восстановителями баланса». Нет, имею я сейчас в виду острую и очень болезненную для меня полемику с близкими мне по духу коллегами, которые именно по вопросам, затронутым здесь, защищают ту же, по сути, позицию, что и «восстановители баланса». Иначе говоря, впервые столкнулся я с общепринятым в современной историографии мнением.
3 Н.М. Карамзин. Записка о древней и новой России, M., 1991, с. 25.
Состоит оно в следующем. Мнение это отрицает, что Н.М. Карамзин, один из основателей современной русской литературы, был в то же время и главным идеологом николаевского переворота. Другими словами, что сыграл он для Николая I ту же роль, что, скажем, Победоносцев для Александра III или, если хотите, Крижа- нич для Петра и Маркс для Ленина.
Как мог Карамзин быть идеологом антипетровского переворота, спросит, например, один из самых авторитетных либеральных историков Ю.С. Пивоваров, если он «был ключевой фигурой всей послепетровской культуры»?4 Это правда, согласится Юрий Сергеевич, что карамзинская История государство Российского и впрямь содержит «один из первых (может быть, первый) вариантов мифа о России», но разве не Карамзин был, несмотря на это, и первым, кто создал у нас «модель независимого человека»?5 Словом, есть множество аргументов, почему никак не мог Карамзин быть сподвижником и тем более вдохновителем реакционного антипетровского переворота.