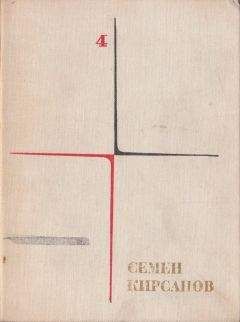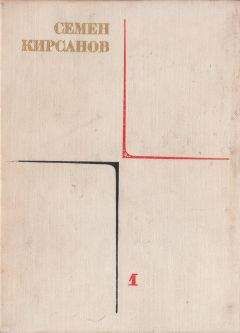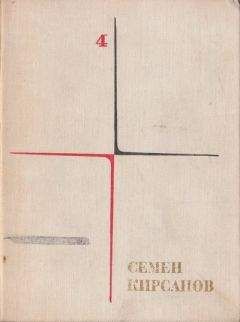Александр III
Шлагбаум. Пост. Санкт-Петербург.
— Ваше императорское величество,
лошади поданы! — В ответ — бурк…
(С холопами болтать не приличествует!)
Лошадь на жар. Пара шпор —
звяк! (Убрать подозрительного субъекта!)
Запахнута шинель. Пара, шпарь
шибко по шири Невского прошпекта!
Под конвоем мраморных колоннад —
Российская империя. Суд-Сенат.
Эй, поберегись! Шапки наперебой.
Едет августейший городовой.
А что если спросит: — Пропишан пашпорт?
Нет? В учашток! — хлюпнет бородой.
Цокают копыта, звякает пара шпор,
едет августейший городовой.
Александр III по Невскому цокал,
стражники с шашками вдоль и поперек.
И вдруг перед вокзалом лошадь на цоколь
встала, уперлась — и ни шагу вперед.
Век ему стоять и не сдвинуться с места, —
бронзовое сердце жжет, говорят,
вывеска напротив какого-то треста
и новое прозвище — Ленин-град.
1
Усатые, мундирные,
вращая крупы жирные,
въезжают уланы
в какой-нибудь Тамбов.
Глядят глаза лорнетные
на клапаны кларнетные,
и медный кишечник
вывалил тромбон.
Из-за кастрюль и чайников
медлительных начальников
кокарды кухарки
увидят с этажей.
У булочных, у будочек
закинут нити удочек, —
письмовник и сонник
прочитаны уже.
«В кофточке оранжевой
я приду на рандевой,
с бравым уланом
пойду на променад.
Ты меня лишь вызови, —
выйду, стану визави,
но так, чтоб хозяйка
не взнала про меня».
И скинет белый фартучек,
на стенке веер карточек,
и пудра «Леда» —
на шкафчике ночном.
Он снимет шашку вескую,
окошко — занавескою…
Мы же песню
новую начнем!
2
Гремят возы обозные,
проходят шапки звездные,
и топот копытный
трогает панель.
Идем с тугими нервами,
работой и маневрами
покажем, покажем
защитную шинель.
Не с шашнями, а с шашками,
с потными рубашками
едем по этим
тамбовским мостовым.
Не вертимся пижонами
с чиновничьими женами, —
обходим дозоры
и на часах стоим.
Вымерли усатые,
позеленели статуи,
а степи качают
султанов ковыли.
Гордимся Первой Конною
и с выправкой спокойною
внимаем зарубежному
бряцанию вдали!..
После битвы на Згло —
месяц побагрел.
Мертвецы без голов
спали на бугре.
— Ой, Петро, ой, Хома,
головы нема!
Ой, Вакула Русачук,
где мой русый чуб?
Ой, боюсь я, боюсь —
срежут сивый ус,
будут водку пить,
ей-ей, из башки моей!
— Чи вставать, чи лежать,
батько атаман?
Чи лежать, чи бежать
к жинкам, по домам?
…Подняло, повело
по полю туман…
— Подымайся, Павло! —
гаркнул атаман.
— Подымайсь, шантрапа
В поле ни беса!
Подбирай черепа,
целься в небеса!
В небесах широко
тучи свист разнес.
Сколько было черепов,
столько стало звезд.
Гололоба, глупа,
добела бледна —
атаманья голова
поплыла — луна…
Хлопцам спать, звездам тлеть,
ну, а мне как быть?
Брагу пить, песни петь,
девушек любить!
*
Песня мной не выдумана
хоть затейна видом она;
песню пели слепцы
под селом Селебцы.
Мы работаем в краю
кос, вил, сена,
желто-пепельных гравюр,
где туч пена.
Мы, как кисти, рожь несем,
наш холст — лето.
Хорошо нести жнецом
сноп, сноп света.
От долин, долин, долин
туч, туч туши.
Косари бредут вдали,
свет звезд тушат.
Кубы хижин, куб бугай,
стогов кубы.
Скот уходит на луга
жевать губы.
Где коровы плоский лоб,
кадык в зобе,
гонят медленных волов:
— Цоб цоб, цобе!..
Проса желтую струю
наземь сыпя,
кормят птицу пеструю:
— Цип, цип, ципа!..
Косу к утру отклепав,
жнец, жнец, жница
ждут, когда взойдут хлеба,
им рожь снится.
И ребячий ровен сон:
кукурузой,
к ним приходит Робинзон,
зон, зон Крузо.
Чтоб под утро дождь босой
не смял злаки, —
под косой, косой, косой
ляг, злак сладкий!
Я слов таких не изрекал, —
могу и ямбом двинуть шибко
тебе, любовный мадригал,
о, ундервудная машинка!
Мое перо, старинный друг,
слети, воробушком чирикнув,
с моих невыпачканных рук
чернил рембрандтовой черникой.
И мне милей, чем лучший стих
(поэзия нудна, как пролежнь!),
порядок звуков Й I У К Е Н Г Ш Щ З Х,
порядок звуков Ф Ы В А П Р О Л Ы Д Ж.
Я осторожно в клавиш бью,
сижу не чванно, не спесиво,
и говорит мне, как «спасибо»,
моя машинка: Я Ч С М И Т Ь Б Ю.
Чернильный образ жизни стар.
Живем ЦАГИ и Автодором.
И если я — поэт-кустарь,
то все-таки кустарь с мотором!
Под кирпичного стеною
сплю я ночью ветряною
(тут и гордость, тут и риск!).
Что мне надо спозаранок?
Пара чая, да баранок,
да конфетка — «барбарис».
Каждый утренний трактир
хрупким сахаром кряхтит,
в каждой чайной
(обычайно!)
чайка чайника летит…
Это зрелость? Или это
только первая примета?
Обхожу я скверики,
подхожу к Москве-реке —
по замерзшей по реке
я гуляю, распеваю
на одесском языке!..
Это юность? Или это
свойство каждого поэта?
Все, что было, — за плечом,
все, что было, — молния!
Нет! Не вспомню ни о чем,
на губах — безмолвие…
Я родился, как и вы,
был веселым мальчиком,
у садовой у травы
забавлялся мячиком…
Это детство? Или это
промелькнувшая комета?
Так живи, живи, поя,
в сердце звон выковывая,
дорогая жизнь моя,
дудочка ольховая!
За нами игольчатый стынет день,
и инеем стянут мех.
Мы пришли, и с нами — тюлень, тюлень,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Гаук!»[2]
И воющих псов ошалелый бег,
взлетает хлыст, и свист, и гавк —
туда, где лед и снег.
До проруби мы проползли за ним,
за ним, протирая мех;
мы поставили знак и его стерегли,
пока он не выполз на снег.
Он выполз дышать, мы метнули копье,
и был его вой, как смех…
Забаве конец! Он убит, — и лег
брюхом на лед и снег.
Сияние льдин слепит глаза,
и снег навис у век,
и мы возвращаемся к женам назад,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Гаук!»
И псов ошалелый бег,
и женщинам слышен собачий гавк —
оттуда, где лед и снег.
Баллада с аккомпанементом