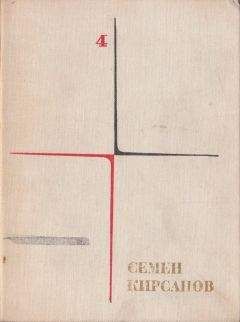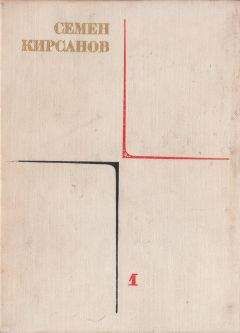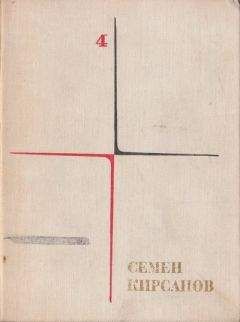Моя волна
Нет, я совсем не из рода раковин,
вбирающих моря гул,
скорей приемником четырехламповым
назвать я себя могу.
Краснеет нить кенотрона хрупкого,
и волны плывут вокруг,
слегка просвечивает катушка Румкорфа
в зеленых жилах рук.
Но я не помню, чтоб нежно динькало,
тут слон в поединке с львом!
Зверинцем рева и свиста дикого
встречаются толпы волн.
Они грызутся, вбегают юркие,
китайской струной ноют,
и женским плачем, слепым мяуканьем
приходит волне каюк.
Но где-то между, в щели узенькой
средь визга и тру-ля-ля —
в пустотах ёмких сияет музыка,
грань горного хрусталя.
Но не поймать ее, не настроиться,
не вынести на плече…
Она забита плаксивой стройностью
посредственных скрипачей.
Когда бы можно мне ограничиться
надеждой одной, мечтой —
и вынуть вилку и размагнититься!
Но ни за что!
Ты будешь поймана, антенна соткана!
Одну тебя люблю.
Тебя, далекая, волна короткая,
ловлю, ловлю!
Как долго раздробляют атом!
Конца нет!
Как медлят с атомным распадом!
Как тянут!
Что вспыхнет? Вырвется. Коснется
глаз, стекол,
как динамит! как взрыв! как солнце!
Как? Сколько?
О, ядрышко мое земное,
соль жизни,
какою силою взрывною
ты брызнешь?
Быть может, это соль земного, —
вблизь губы, —
меня опять любовью новой
в жизнь влюбит!
Я, в сущности, старый старатель,
искательский жадный характер!
Тебя я разглядывал пылко,
земли потайная копилка!
Я вышел на поиск богатства,
но буду его домогаться
не в копях, разрытых однажды,
а в жилах желанья и жажды.
Я выйду на поиск и стану
искателем ваших мечтаний,
я буду заглядывать в души
к товарищам, мимо идущим.
В глазах ваших, карих и серых,
есть Новой Желандии берег,
вы всходите поступью скорой
на Вообразильские горы.
Вот изморозь тает на розах,
вот низменность в бархатных лозах,
вот будущим нашим запахло,
как первой апрельскою каплей.
И мне эта капля дороже
алмазной дробящейся дрожи.
Коснитесь ее, понесите,
в стихах ее всем объясните!
Какие там, к черту, дукаты?
Мы очень, мы страшно богаты!
Мы ставим дождинки на кольца,
из гроз добываем духи,
а золото — взгляд комсомольца,
что смотрится в наши стихи.
По шоссе, мимо скал, шла дорога моря поверх.
Лил ливень, ливень лил, был бурливым пад вод.
Был извилистым путь, и шофер машину повер —
нул (нул-повер) и ныр-нул в поворот.
Ехали мы по Крыму
мокрому.
Грел обвалом на бегу
гром.
Проступал икрою гуд —
рон.
Завивался путь в дугу,
вбок.
Два рефлектора и гу —
док.
Дождь был кос. Дождь бил вкось.
Дождь проходил через плащ в кость.
Шагал на огромных ходулях дождь,
высок и в ниточку тощ.
А между ходулями шло авто.
И в то авто я вто —
птан меж
двух дам
цвета беж.
Капли мельче. Лучей веера
махнули, и вдруг от Чаира до Аира
в нагорье уперлась такая ра…
такая! такая! такая радуга дугатая! —
как шоссе, покатая!
Скала перед радугой торчит, загораживая.
Уже в лихорадке авто и шофер.
Газу подбавил и вымчал на оранжевое —
гладкая дорожка по радуге вверх!
Лети, забирай
на спектры!
Просвечивает Ай —
Петри!
Синим едем, желтым едем, белым едем, красным едем.
По дуге покатой едем, да не правится соседям, —
недовольны дамы беж:
— Наш маршрут не по дуге ж!
Радуга, но все ж
еду на грязи я.
Куда ты везешь?
Это безобразие.
Это непорядки,
везите не по радуге!
Но и я на всем пути молчу на эти речи:
с той радуги сойти — не может быть и речи!
Схожее внешне с цаплею,
с листьями сухими —
летит растение теплое,
свойственное Сухуми.
В Арктику из субтропиков
везет растение летчик,
бережно, в крошке пробковой,
чтоб не помять колючек.
Скоро и Харьков скроется,
тучи уйдут к Батуми,
но винт не уступит в скорости
самому самуму.
Он донесется вскорости
к сетке широт паучьей,
где — на советском полюсе —
мы вырастим сад плавучий.
Лед порастет цветами,
снег заблестит теплицами,
все небылицы станут
светлыми да-былицами!
Я вижу уже заранее
под пальмой тушу тюленью.
Мы едем с мыса Желания
в долину Осуществленья.
Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль,
плыл корабль
среди капель
и на север курс держабль.
Гелий — легкая душа,
ты большая туча либо
сталь-пластинчатая рыба,
дирижабрами дыша.
Серый жесткий дирижабль,
где синица?
где журавль?
Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
— Диризяблик! Дирижаворонок!
Он, забравшись в небовысь,
дирижяблоком повис.
Речь — зимостойкая семья.
Я, в сущности, мичуринец.
Над стебельками слов — моя
упорная прищуренность.
Другим — подарки сентября,
грибарий леса осени;
а мне — гербарий словаря,
лес говора разрозненный.
То стужа ветку серебрит,
то душит слякоть дряблая.
Дичок привит, и вот — гибрид!
Моягода, мояблоня!
Сто га словами поросло,
и после года первого —
уже несет плодыни слов
счасливовое дерево.
Когда на мартовских полях
лежала толща белая,
сидел я с книгой, на полях
свои пометки делая.
И в миг, когда мое перо
касалось граф тетрадочных,
вдруг журавлиное перо
с небес упало радужных.
И я его вписал в разряд
явлений атомистики,
как электрический разряд,
как божий дар без мистики.
А в облаках летел журавль
и не один, а стаями,
крича скрипуче, как журавль,
в колодец опускаемый.
На север мчался птичий клин
и ставил птички в графике,
обыкновенный город Клин
предпочитая Африке.
Журавль был южный, но зато
он в гости к нам пожаловал!
Благодарю его за то,
что мне перо пожаловал.
Я ставлю сущность выше слов,
но верьте мне на слово:
смысл не в буквальном смысле слов,
а в превращеньях слова.
Между льдами ледяными
есть земля еще земней!
Деревянные деревья
среди каменных камней.
Это северней, чем Север,
и таежней, чем тайга,
там олени по-оленьи
смотрят в снежные снега.
И нерыбы точно рыбы
там на лежбищах лежат,
в глыбы слившиеся глыбы
строго море сторожат.
Еле солнечное солнце
сновидением во сне
входит в сумеречный сумрак,
тонет в белой белизне.
Люди там живут как люди
с доброй детскостью детей,
горя горького не зная
в мире сетчатых сетей.
Под сияющим сияньем —
домовитые дома,
где сплетают кружевницы
кружевные кружева.
Это — именно вот это!
И со дна
морского дна
эхолот приносит эхо:
глубока ли глубина?
И желает вниз вонзиться
острие на остроге,
и кричат по-птичьи птицы:
— Далеко ли вдалеке?
О, отдаляться в отдаленье,
где эхо внемлет эху,
о, удивляться удивленью,
о, улыбаться смеху!