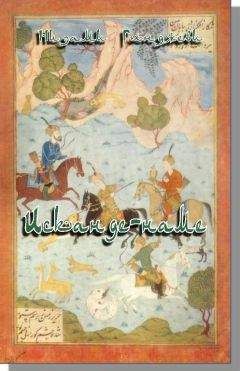Была его рука сильнее лапы львиной,
И столп рассечь мечом умел он в миг единый.
Он узел из волос развязывал стрелой.
Копьем кольцо срывал с кольчуги боевой.
Как лучник, превращал, на бранном целясь поле,
Он барабан Зухре в свой барабан соколий.
Тот, кто бы натянул с десяток луков, — лук
Хосров гнуть не мог всей силой мощных рук.
Взметнув аркан, с толпой он не боялся схваток,
Обхват его стрелы был в девять рукояток.
Он зло пронзал стрелой — будь тут хоть Белый див.
Не диво — див пред ним дрожал, как листья ив.
Коль в скалы он метал копья летучий пламень, —
Мог острие копья он вбить глубоко в камень.
А лет четырнадцать к пределу донеслись —
У птицы знания взметнулись крылья ввысь.
Он всё укрытое хотел окинуть взором,
Добро и зло своим отметить приговором.
Один ученый жил: звался Бузург-Умид.
Сам разум — знали все — на мудрого глядит.
Все небо по частям постичь он был во власти,
И вся земля пред ним свои вскрывала части.
И были тайны тайн даны ему в удел.
Сокровищниц небес ключами он владел.
Хосров его призвал. В саду, к чертогам близким,
Тот речью засверкал, — мечом своим индийским.
Он в море знания жемчужины искал,
Руками их ловил, царевичу вручал.
Он озаренный дух овеял светом новым, —
И было многое усвоено Хосровом.
Кольца Кейвана свет и весь хребет земли —
Весь мир именовать слова его могли.
В недолгий срок во власть морские взял он недра,
Все знал он, что открыл ему учитель щедро.
К Познанью дух пришел из безраздумных дней.
В своем пути достиг он царских ступеней.
Когда же для него — пределов звездных друга —
Открылись все круги крутящегося круга, —
Он понял: долга нет отраднее, чем долг
Служения отцу, и пред отцом он молк.
Отец его любил сильнее всей вселенной —
Да что вселенная! — сильней души нетленной.
Чтоб длительную жизнь на свете сын узнал,
У длинноруких всех он руки обкарнал.
И, укрощая зло, гласил стране глашатай:
«Беда злокозненным!» — и никнул, виноватый.
Гласил: «Пасти коней в чужих полях нельзя,
К плодам чужих садов заказана стезя.
Смотреть на жен чужих — срамнее нету срама.
Не пребывай в дому турецкого гуляма.
Иль кару понесешь достойную». Не раз
Шах в этом поклялся, — да помнят все наказ!
Он к справедливости не погашал стремленья, —
И в эти дни земля достигла исцеленья.
И выпустило мир из рук ослабших Зло.
Не стало злых людей, спасение пришло.
Был весел день. Хосров в час утренней молитвы
Поехал по местам, пригодным для ловитвы.
Всем любовался он, стрелял зверей, и вот
Селенье вдалеке веселое встает.
И тут над росами зеленого покрова
Раскинут был ковер велением Хосрова.
Пил алое вино на травах он, и, глядь, —
Златая роза вдаль уж стала уплывать.
Вот солнце в крепости лазоревой на стены
Взнесло свой желтый стяг. Но быстры перемены:
Оно — бегущий царь — алоэ разожгло,
Раскрыло мрак шатра, а знамя унесло.
И под гору оно коня, пылая, гнало,
Мечами небосвод, ярясь, полосовало.
Но, ослабев, ушло, ушло с земли больной
И свой простерло щит, как лотос, над водой.
В селении Хосров потребовал приюта,
Для пира все собрать пришла теперь минута.
Он тут среди друзей ночную встретил тень.
Пил яркое вино, ночь обращая в день.
Под органона гул — о, звуков преизбыток! —
Пил аргаванный он пурпуровый напиток.
Во фляге булькал смех. Была она хмельна.
И сыну царскому с ней было не до сна.
С зарей Хосровов конь — безудержный по нраву
Меж чьих-то тучных трав был схвачен за потраву.
А гурский нежный раб, всем услаждавший взгляд,
Через ограду крал незрелый виноград.
И вот лишь солнце вновь над миром засияло
И ночи голову от тела дня отъяло, —
Уж кое-кто из тех, что носят яд в устах,
Умчались во дворец, и там услышал шах,
Что беззаконие свершил Хосров, что, верно,
Ему не страшен шах, что шепот будет скверный.
Промолвил шахиншах: «Не знаю, в чем вина»,
Сказали: «Пусть его — неправедность одна.
И для его коня не создана отрада,
И раб его желал чужого винограда.
И на ночь бедняка лишил он ложа сна,
И арфа звонкая всю ночь была слышна.
Ведь если бы он был не отпрыск шахиншаха, —
Он потерял бы все, наведался бы страха.
Врач в длань болящего вонзает острие,
А тело острием он тронет ли свое?»
«Меч тотчас принести!» — раздался голос строгий.
И быстрому коню немедля рубят ноги.
А гурского раба владельцу лоз дают, —
Сок розы сладостной в поток соленый льют.
Оставили жилье, где пили в ночь охоты,
Как дар, хосровов трон искуснейшей работы.
Арфисту ногти — прочь, чтоб голос арфы смолк,
А с арфы смолкнувшей сорвать велели шелк.
Взгляни — вот древний суд, для всех неукоснимый,
Суд даже над своей жемчужиной творимый.
Где ж правосудье днесь великое, как рок?
Кто б сыну в наши дни подобный дал урок?
Служил Ормуз огню. Свое забудем чванство!
Ведь нынешних времен постыдно мусульманство.
Да, мусульмане мы, а он язычник был.
Коль то — язычество, в чем мусульманства пыл?
Но слушай, Низами, пусть повесть вновь струится:
Безрадостно поет нравоучений птица.
Хосров со старцами идет к своему отцу
Когда Хосров Парвиз увидел свой позор, —
Он призадумался, его померкнул взор.
Он понял: для себя он в прошлом не был другом.
Он понял: прав отец — воздал он по заслугам.
Все дело рук своих! И вот руками он
Бил голову свою, собою возмущен.
Двум старцам он сказал, не ощущая страха:
«Ведите кипарис к престолу шахиншаха.
Быть может, вашему заступничеству вняв,
Шах снизойдет ко мне, хоть я и был неправ»,
И саван он надел и поднял меч, — и в мире,
Как в Судный день, шел плач, звуча все шире, шире.
С мольбою старцы шли. Смотря смиренно вниз,
Подобно пленнику, за ними шел Парвиз.
Лишь к трону подошли, не умеряя стона,
В прах, грешник горестный, царевич пал у трона.
«Так много горести, о шах, мне не снести!
Великим будь — вину ничтожному прости.
Юсуфа не считай ты оскверненным волком.
Он грешен, но он юн, он свет не понял толком.
Ведь рот мой в молоке, и все мне в мире вновь.
Что ж мощный лев испить мою желает кровь?
Пощады! Я — дитя! Сразит меня кручина,
Не в силах вынести я гнева властелина!
Коль провинился я — вот шея, вот мой меч.
Тебе — разить, а мне — сраженным наземь лечь.
Я всякий гнет снесу на перепутьях жизни, —
Лишь только б царственной не внять мне укоризне».
Так молвил чистый перл и начал вновь стенать.
И голову свою склонил к земле опять.
Покорность мудрая толпу людей сразила,
И вновь раздался плач — его взрастила сила, —
И вопли понеслись, как шум листвы в ветрах,
И жало жалости пачуял шахиншах.
Он видит: сын его, хоть молод он и нежен,
Уж постигает путь, что в мире неизбежен.
Он, для кого судьба не хочет вовсе зла,
Сам хочет одного — чтоб скорбь отца прошла.
Подумай: как с тобой поступит сын, — он то же
Увидит от того, кто всех ему дороже.
Для сына ты не будь истоком зла и мук,
Преемником ему ведь твой же будет внук.
И на сыновний лик склонился взор Ормуза,
Он понял: сын ему — целенье, не обуза.
Он благороден, мудр, и как не разгадать,
Что божия на нем почила благодать.
Целуя сына в лоб, обвив его руками,
Ормуз повелевать велит ему войсками.
Когда, сойдя с крыльца, на двор ступил Хосров,
Мир засиял опять: с него упал покров.
Гадал хосровов лик — он был для взоров пиром, —