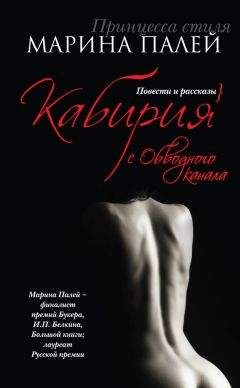Она как-то странно на меня взглянула, и тут я вспомнила, что мне давно пора вытаскивать из стиральной машины заложенную в нее еще вчера вещевую начинку. И вот, когда я, предварительно встряхнув, уже расправляла над чердачной веревкой девочкину джинсовую курточку, из мокрого нагрудного кармана этой одежки (любовно мной сшитой по моднейшей выкройке) вдруг вывалилась – словно многократно пережеванная верблюдом – рыхлая масса, которая, при ближайшем рассмотрении, оказалась увесистой пачкой пришедших в полную негодность банкнот, достоинствами в полтинник и стольник.
Глава 5
Лепной потолок
(Запись в дневнике через двадцать лет)
«Сегодня я была у дантиста. Весенний день. Это поистине новое чудо, это, как прежде, снова весна. Нет, не то... Какая боль и грусть в надежде еще одну весну узнать. Ну и так далее.
И вот именно сегодня, как мне кажется, я наконец поняла, почему люблю – да, именно люблю – эти визиты к моему дантисту.
Я уже давно не живу в Ингерманландии – я существую, совсем на другой земле, притом искусственной – в прямом смысле этого слова (что, видимо, весьма художественно и ценно для “концепции текста”, но совершенно неприемлемо для моего дыхания) – итак: я существую в искусственной земле, где всё другое, абсолютно всё.
Но... Вот я прихожу к дантисту (что, плановым образом, случается дважды в году), и он усаживает меня в кресло, которое, плавно откидывая спинку, превращается в подобие кушетки, – и мне, ранее многократно убеждавшейся в абсолютной действенности обезболивающих средств, – мне, лежащей лицом вверх, всё равно остается с ужасом ждать сокрушительной болевой атаки, которая легко и просто лишит меня скромных признаков человека, – и вот, именно в эти самые минуты, я отчетливо вижу потолок.
Я вижу потолок в кабинете моего дантиста.
Это лепной потолок.
Такого здесь нет ни в одном доме. Ни в одном здании этого города. Возможно, его нет ни в одной постройке этой страны. Ни в одном жилище, стоящем на искусственной земле этого королевства.
Но такой потолок есть в кабинете моего дантиста.
Лепной петербургский потолок.
Такой был в моей комнате.
Во многих петербургских домах.
Я никогда не думала, что потолок с лепниной – какая-то невидаль. Что его где-то (в богатейшей стране) может напрочь не быть. И потом: вот уж явно не предмет первой необходимости!
Так я думала.
(Думала? Разве я думала об этом? Конечно, нет.)
И вот я лежу плашмя в кабинете дантиста, лицом вверх, и лепной петербургский потолок, начиная медленно вращаться, сливается воедино с моим привычным ожиданием боли, с самой неизбежностью ожидания боли, – и вот, именно в эти мгновения, я отчетливо чувствую, что счастлива, – я баснословно, нечеловечески счастлива! – потому что именно сейчас ты так близка мне, как не была никогда, – и мы снова вместе». Глава 6
В преддверии катастрофы
Вторая наша осень, про которую мы еще не знали, что она – наша последняя, началась уже в августе. На кухне, куда, выпертые со своих дач беспрерывными дождями, раньше обычного вернулись соседи, к вечеру начали запотевать стекла.
Это было уютно и грустно. К концу дня, предшествовавшего катастрофе, – поздним вечером, когда все, кроме нас, улеглись спать, мы с ней сели пить на кухне чай – с разнообразными вареньями, которыми угостили нас мои соседи. Загородные летние утра, летние полдни, летние вечера, летние ночи – своей благодатью, сообща, – видимо, аннигилировали в их памяти унизительные в своей неизбежности городские коммунальные свары и распри, но какой-то привкус от них, конечно, остался, потому что яркий балтийский янтарь яблочного варенья, рубин вишнёвого, берилл крыжовникового, нежно-желтый опал лимонного – являлись не только знаками ретроспективного замирения, но и, выполняя дипломатическую миссию, были ежегодной данью, учтенной в коммунальной доктрине стратегического задабривания.
От горячего чая, от огня разноцветных варений щеки ее разгорелись, она вспорхнула с табуретки, с грацией венецианской танцовщицы присела на край подоконника – и прижала пылавшую, словно скарлатинозную, щеку к запотевшему стеклу. Я села рядом и, повернувшись к окну, быстро вывела мизинцем:
NEC TE, NEC SINE TECUM VIVERE POSSUM[7].
Буквы получились черными.
В каждой из них, словно изначально, царила ночь.
Одним движением, заставив стекло слегка взвизгнуть, я уничтожила буквы, то есть промежутки между ними, а заодно и остальной мираж («сконденсированный пар»?) – и вот кромешная тьма, словно чернила гигантского осьминога, целиком залила оконный проем...
А знаешь, что я слышала однажды в доме отдыха? – фыркнула вдруг девочка. Там одна мамаша, тупая такая швабра-библиотекарша, говорила по телефону со своим дебильным сыночком. Он отказывался где-то там, у бабушки, что ли, есть манную кашу. Эта дура – ему: «Ко-о-о-ока, ты же интеллигентный человек! А интеллигент... а интеллигент... – девочка фыркает, – ...а интеллигент обязан съедать всё, что ему дают!..»
Я сподвижнически, очень злорадно, берусь хохотать, стараясь делать это тише, чтобы не разбудить соседей, и в это время, сквозь хохот, мне слышится какой-то звук в прихожей.
Я прижимаю палец к губам.
Звук повторяется.
Я прислушиваюсь...
Это – осторожный стук во входную дверь.
Когда я пытаюсь восстановить с самого начала, час за часом, наш предпоследний день, моя память выделывает странное, весьма досадное коленце. Она лжет, подсовывая мне вместо безнадежного августовского утра (где дождь, казалось, рыдал от визгливых матюгов дворничихи) – вместо дождливого утра предосени – спелое и безмятежное утро июня.
Всякий раз, производя пристрастную ревизию своей жизни (целенаправленную эксгумацию неких бесценных останков), я спрашиваю себя: откуда взялся в моей памяти этот эпизод, явно не относившийся к моей с ней истории. Этот эпизод, как мне кажется, не относился даже к моему одиночному бытованию, то есть я помню его четко, но так же четко знаю, что – такого рода отрада – вообще вряд ли могла иметь место в моей жизни. Подобные аберрации памяти, ее подножки и каверзы насылают оторопь, но я доверяю своей памяти всецело, даже когда она лукавит (почти уверена, что делает она это из бескорыстных, сугубо художественных соображений).
Но и это не всё. Я сознаю, что неизвестно как возникающее видение июня смонтировано моей памятью, причем встык, именно с тем августовским днем. То есть – я отлично понимаю, что кадр лжепамяти, о котором сейчас речь, явно июньский (натура, утро, солнце), но режиссер монтажа, по каким-то своим авторским соображениям, прочно склеил его с августовским (комната, утро, дождь).
Итак, кадр из июня.
Я вижу себя где-то за городом – на автобусной остановке.
Стою одна.
Транспорта нет и, может, не будет совсем.
К счастью, это не имеет для меня значения.
Уютно, укромно, прохладно.
Безлюдно.
Хвойный лес.
Пруд.
Я вижу гривастую иву – словно бы акварельную вставку в масляной тяжеловесной картине. Ивовые пряди – изящные, сквозистые, серо-зеленые – самой природой разобраны в ровные, отдельные друг от друга колонны. Да: колонны с каннелюрами. Эти колонны похожи и на лошадиные шеи. А невидимые мне лошажьи губы нежно пьют пруд.
Вторая ива, более яркая, красуется на другом берегу. Она выглядит словно кузина – той, что стоит на моем. Ее пряди курчавей. Пряди-ручьи и прядки-ручейки волнисто стекаются в мощные русла – и вот уж трепещут ниспадающими пологами фонтанов.
Невдалеке от второй красуется еще одна ива: она похожа на дерзкого, гривастого, заросшего до бровей подростка. Естественно предпочтя лес – школьным урокам, ива-тинейджерка запоздало платит Тарзану киноманскую дань своих предков.
Сонный ветер, каждым своим порывом, пытается перемешать в гуще травы все цветы, все цвета, какие там есть, – красный, синий, розовый, желтый, лиловый... Ветер делает это так, словно равномерность окраски является для него мерилом гармонии, заветной целью. С каждым новым порывом вся эта разрозненная, разноголосая пестрота, кажется, вот-вот сольется в какой-то единый цвет... в какой? Может быть, в полностью белый? (Одновременно всевмещающий – и никакой?) Вот возьмет и сольется – подчинившись неукоснительному занудству школьной физики?
Но этого не происходит.
Стоя на автобусной остановке, где небольшой луг, прямо перед моими глазами, обрамлен зелеными и, в основном, черными елями (в гуще их щедрого, лохматого меха, посаженного на подкладку из драгоценного мха, предполуденные тени особенно мягки), – стоя перед лугом и обрамляющим его лесом, где темная зелень всегда выглядит живописней светлой, – я пытаюсь понять, почему так не люблю голых пространств. Глядя на маленький пруд, трогательно-грустный, даже угрюмый от полусомкнутых темных ресниц, я думаю, почему мне так уютно здесь, только здесь, в этом крошечном ингерманландском царстве – и думаю я об этом с честным старанием: ясное предчувствие того, что мне будет бесприютно в любой другой точке планеты, не оставляет меня – равно как и не оставляет меня ясное знание, что именно это со мной и случится.