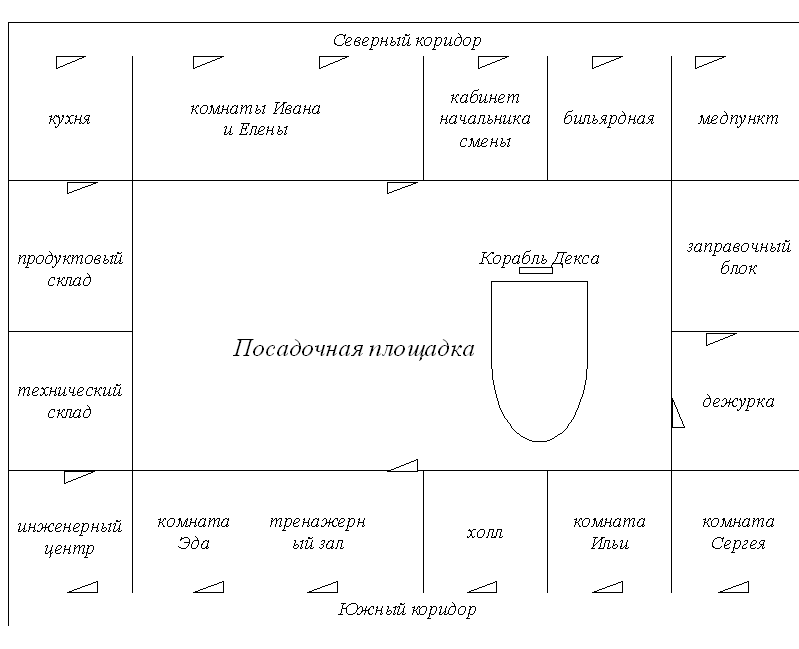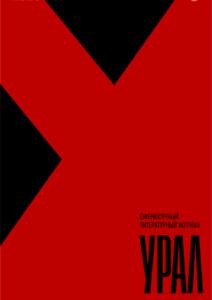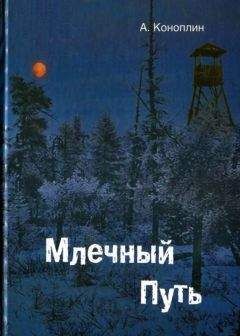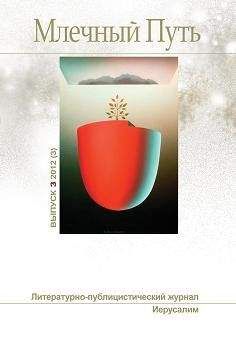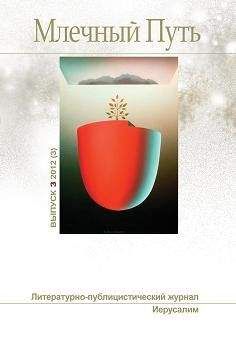кто-то не из нашего рода, значит, ему тоже предстоит скорая смерть.
— Кровожадная леди! А ты ее видел? — усмехнувшись, полюбопытствовал Смит. Я негодующе покосился на него, но Редверс ответил вполне спокойно.
— Однажды, когда умирал мой прадед. Только, Дарем, прошу, не записывай этого.
Я охотно дал согласие, изнывая от любопытства. Редверс, как истый актер, выдержал паузу, чтобы наше нетерпение дошло до предела, и затем продолжил:
— Это было поздним вечером, и мне давно полагалось спать, но меня разбудила карета доктора. Я вертелся на постели, пытаясь уснуть, прислушивался к голосам, и почему-то с каждой минутой мне становилось все страшней. Я больше не мог оставаться у себя в комнате — я вскочил, нашарил среди игрушек свой меч и вышел в коридор. Я склонился над перилами лестницы, но в холле было уже пусто. И тут я почувствовал дуновение холодного ветерка. Я обернулся и увидел, что из глубины коридора на меня надвигается черная тень, постепенно превращаясь в тонкую даму в черном платье. Сначала я успокоился, но потом понял, что я не знаю эту даму, и в ее лице было нечто такое… печаль и злоба, слитые воедино. Она неслась по коридору очень быстро, вытянув вперед руки, и глаза у нее были словно застывшие черные камешки. Мне показалось, что она хочет меня обнять, и я вскрикнул от ужаса и замахал своим детским оружием. Когда я проткнул ее, мне показалось, что я рву паутину. Она разинула рот в беззвучном крике и разлетелась на тающие клочья темноты, а я упал в обморок. Врач, который опоздал к смертному одру моего деда, занялся моим лечением, потому что я не приходил в себя трое суток. У меня чуть не случилась мозговая горячка.
Серьезность Редверса произвела на всех нас глубокое впечатление.
— Но почему тебе удалось прогнать Черную Даму? — первым нарушил я тишину. — В этом случае должно было сработать какое-то условие, условие…
Я запутался под взглядами своих товарищей.
— От тебя, Дарем, ничего не скрыть, — усмехнулся Редверс. — Действительно, условие было. Поскольку Черная Дама покончила с собой с помощью стали, она теперь боится холодного оружия, любого. Меч, стрела с железным наконечником, копье… а мой детский меч был сделан из настоящего кинжала, только с затупленным лезвием.
— Холодное железо… — задумчиво сказал я, сожалея, что пообещал не записывать эту историю. Но Артур уже перевел разговор на более веселые и земные темы.
На следующий день мы утоптали и залили водой тропки с холма, приделали полозья к креслам и катали в них дам из соседнего Фернли-Мэнор.
В разгар этих веселых забав пришло письмо с ужасной новостью.
У отца Редверса, сэра Арчибальда, случился третий удар. Артур должен был спешить в Лондон, и о выздоровлении речь не шла — только о возможности попрощаться.
Я был польщен и очень удивлен, когда Артур попросил меня поехать вместе с ним. Хотя мы немного сблизились за этот месяц, я полагал, что он попросит об этом Гилла или Смита, но Артур в присущей ему манере сказал, что «ты само воплощение спокойствия, и я надеюсь позаимствовать у тебя немного, если ты не возражаешь, приятель».
Конечно, как я мог возражать?
Мы прибыли в скорбно притихший особняк на Белгрейв-сквер. Слуги уже рассыпали перед ним солому, чтобы стук копыт и грохот колес не тревожили больного. Сэр Арчибальд ни разу не приходил в сознание с тех пор, как с ним случился удар. Редверс представил меня своей матери. Около тридцати лет назад это был скандал, когда натурщица благодаря своей редкостной красоте стала леди Редверс; и, признаю, на мгновение во мне проснулось вульгарное любопытство.
Теперь это была тучная седовласая дама, слегка напоминающая монгольфьер в оборках и рюшах. Очаровательная капризная гримаска, запечатленная на лице феи в «Июльском полдне», превратилась в полноценную гримасу недовольства и недоверия к миру, впечатанную морщинами в округлившееся лицо. Только сочные губы изящного и твердого очерка остались неподвластны времени.
Но в выцветших глазах леди Редверс и ее плавных жестах читалась такая несокрушимая энергия и жизненная сила, что это вызывало смутную тревогу. И Артур Редверс, недосягаемый идеал для большинства студентов Оксфорда, в ее присутствии словно поблек и отступил в тень.
Взаимная привязанность матери и сына была очевидна, и я, наблюдая за ними, с новой силой почувствовала неуместность своего присутствия здесь, в доме умирающего. Какую поддержку я, чужак, мог предложить тем, кто связан кровными узами и столькими общими воспоминаниями?
Но леди Редверс приветствовала меня столь любезно и гостеприимно, что я несколько воспрянул духом. Комната моя была прекрасно обставлена, а ужин — просто великолепен. Затем мы с Артуром устроились в курительной, еще пропитанной запахом излюбленных сэром Арчибальдом дешевых сигар, и пробыли там почти до рассвета. Я понимал, что сейчас Редверсу нужен не собеседник, а слушатель, и старался выказать ему все внимание и поддержку, которую он, безусловно, заслуживал. Временами в голосе Артура явственно сквозила горечь. Чем больше говорил Артур, тем яснее становилось, что отца и сына связывало очень немногое, и ни тот ни другой не старались упрочить эту связь. Сэр Арчибальд долго не мог смириться с тем фактом, что Редверс лишен художественного дара, и в его глазах, в отличие от большинства английских отцов, спортивные успехи сына немногого стоили.
— Может быть, отец думал, что это единственное, что достойно передать сыну, — неожиданно сказал Артур. — В остальном, ты знаешь, он мало был похож на «благочестивого отца» из воскресной книжки… И когда оказалось, что я неспособен линию провести ровно, он потерял ко мне всякий интерес…
На следующее утро я вместе с леди Редверс и Артуром выслушал отчет доктора, который подтвердил наихудшие опасения. Сэр Арчибальд так и не приходил в сознание, и его время в этом мире заканчивалось. Речь шла о днях, не о неделях.
…Тягостная атмосфера дома, застывшего в ожидании неизбежного, по-своему сказывалась на каждом его обитателе. И без того превосходно вышколенная прислуга превратилась в невидимок, но это не спасало их от тихих и жестких выговоров леди Редверс, которая отчитывала их самолично, не доверяя этого дворецкому или экономке.
Артур — после того первого вечера — на удивление мало нуждался в моем обществе. (Может, потому, что мы очень по-разному представляли себе «допустимое» количество выпитого, и я, заметно уступая Артуру в выносливости, твердо придерживался своей нормы.) Почти все время он проводил вне дома, возвращаясь иногда за полночь, — хотя, надо отдать ему должное, никогда не терял самоконтроль и дар речи.
Я оказался предоставлен сам себе