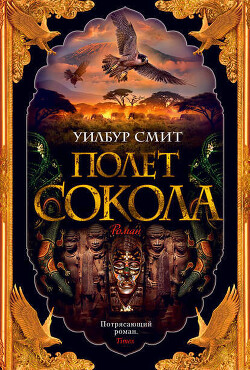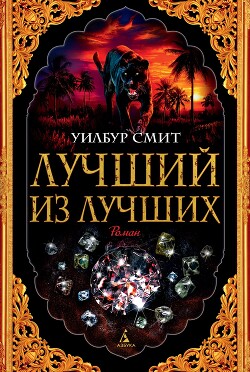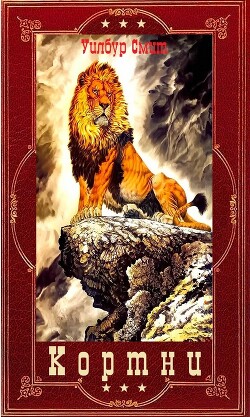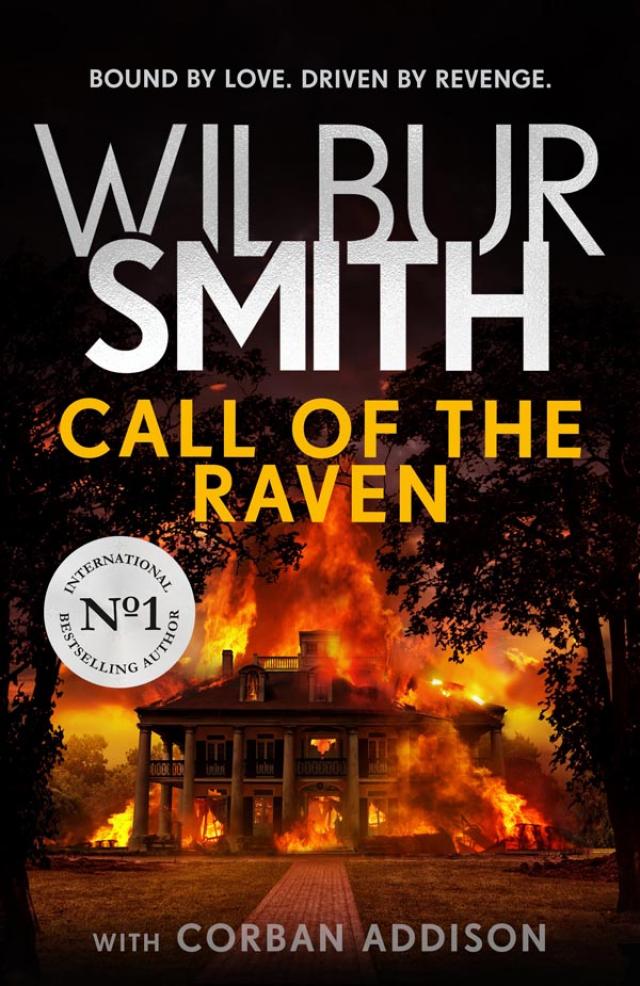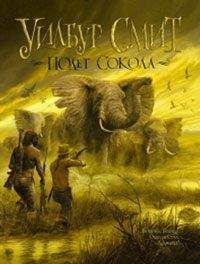Мунго Сент‑Джон глубоко вздохнул. В глазах еще сквозило сожаление, лицо оставалось суровым, однако голос прозвучал весело и небрежно:
— Тогда тем более не стоит их отпускать — иначе что скажет моя жена?
Робин не сразу поняла смысл его слов. Потом вздрогнула и на мгновение сжала руки у него на талии. Она опустилась на пятки и, сидя нагишом на постели, взглянула на него удивленно и недоверчиво.
— Вы женаты? — услышала она собственный голос, доносившийся словно с дальнего конца длинного пустого коридора.
Мунго Сент‑Джон кивнул.
— Уже десять лет. На француженке из знатной семьи, кузине Луи Наполеона. Очень красивая женщина, родила мне троих сыновей, и все они с нетерпением ждут моего возвращения в Баннерфилд. — Он помолчал и добавил с бесконечной печалью: — Прости, дорогая, я понятия не имел, что ты не знаешь.
Сент‑Джон протянул руку к ее лицу, но Робин отпрянула, словно от ядовитой змеи.
— Оставьте меня! — прошипела она.
— Робин… — пробормотал Сент‑Джон, но она отчаянно затрясла головой:
— Нет, молчите! Не надо слов! Уходите! Уходите сейчас же!
Робин заперла дверь каюты и присела к сундучку, служившему ей письменным столом. Слез не было, глаза горели, словно обожженные ветром пустыни. Бумаги почти не осталось, пришлось вырвать последние страницы из дневников. Листы, побывавшие и в сухой жаре высокогорий, и в душной сырости побережья, заплесневели и покоробились.
Робин тщательно разгладила первую страницу, опустила перо в тушь, которой осталось совсем на донышке, и спокойной уверенной рукой вывела сверху:
16 ноября 1860 года. На борту невольничьего судна «Гурон».
И тем же ясным аккуратным почерком продолжила:
Дорогой капитан Кодрингтон!
Полагаясь на всемилостивейшее провидение и веруя в единственного и истинного Бога и его сына, спасителя нашего Иисуса Христа, всей душой надеюсь, что это письмо попадет вам в руки, когда у вас еще останется время действовать.
Пережив множество невероятных приключений и несчастий и лишившись друзей и защитников, я оказалась во власти небезызвестного американского рабовладельца и работорговца Мунго Сент‑Джона. Меня принуждают против воли и совести служить врачом на его разбойничьем судне, которое в настоящий момент готовится к плаванию вокруг мыса Доброй Надежды, через Атлантический океан в один из южных портов США.
Я пишу эти строки, а с палубы у меня над головой и снизу, из трюма, доносятся скорбные стоны восьмисот несчастных, покинутых всеми созданий. Одетых лишь в цепи, их грузят на борт и запирают в трюме на все время плавания, которого многие из них не переживут.
Мы стоим на якоре в устье потаенной реки, отделенной от морского побережья сетью извилистых проток и мангровыми болотами и представляющей собой идеальное укрытие для творящихся здесь беззаконий. Тем не менее мне удалось ознакомиться с корабельными картами и из пометок штурмана узнать название реки, Рио‑Саби, и ее точное местоположение: 20°58′ южной широты и 35°03′ восточной долготы.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы задержать отплытие судна, хотя в настоящий момент затрудняюсь сказать, каким образом. Если это письмо дойдет до вас вовремя, для офицера с вашей храбростью и опытом не составит труда перекрыть устье реки и захватить невольничий корабль, когда он попытается выйти в открытое море.
Если мы отплывем до вашего прибытия, заклинаю вас следовать тем же курсом, которым пойдет «Гурон», вокруг мыса Доброй Надежды, а я буду горячо молить Всевышнего о встречном ветре и неблагоприятной погоде, чтобы вы успели догнать нас.
Далее в письме шел рассказ о плене и эпидемии с подробным описанием варварства и жестокости работорговцев. Спохватившись, что отчет получается слишком длинным, Робин стала заканчивать.
Когда‑то вы любезно выразили уверенность в некой таинственной связи наших с вами судеб. Я знаю, что вы разделяете мою ненависть к гнусной торговле людьми, потому и беру на себя смелость воззвать к вам в надежде, что вы прислушаетесь к моему крику боли.
Робин порылась в пенале и достала сережку, парную с той, которую когда‑то подарила на прощание капитану Кодрингтону.
Прилагаю к письму знак моей дружбы и веры в вас. Надеюсь, вы его узнаете. Я каждый день буду высматривать на горизонте паруса вашего чудесного корабля, спешащего на помощь мне и другим несчастным, разделяющим со мной это злополучное путешествие.
Она размашисто подписалась своим мужским круглым почерком и зашила толстую пачку листов вместе с дешевым украшением в лоскут грубой парусины.
Адрес мог быть только один: Клинтон упоминал, что должен посетить остров Занзибар. Робин знала, что там служит консулом честный человек, убежденный противник работорговли, один из немногих, заслуживших симпатию и уважение ее отца.
Закончив работу, она спрятала парусиновый пакет под юбками и вышла на палубу. Мунго Сент‑Джон, исхудавший и бледный, стоял на юте. Он шагнул к ней, но Робин поспешно отвернулась.
— Натаниэль, — окликнула она боцмана. — Мне надо навестить больных.
Она указала на арабскую дхоу, все еще стоявшую на якоре ниже по течению.
— Они готовятся поднять парус, мэм, — доложил боцман, бодро салютуя костяшками пальцев. — Отплывут раньше, чем мы…
— Успеем, если вы прекратите болтать! — отрезала Робин. — Я должна проверить, не нужно ли им чего‑нибудь.
Боцман неуверенно взглянул на капитана. Помедлив, Мунго коротко кивнул и отвернулся, продолжая наблюдать за вереницей рабов, поднимающихся на борт.
Арабский капитан, которому только сегодня хватило сил встать у румпеля, приветствовал доктора с почтением.
Натаниэль ждал в шлюпке и не мог наблюдать разговор на палубе. Убедившись в том, что с «Гурона» ничего не было видно, Робин передала капитану пакет, добавив к нему золотой английский соверен.
— Тот, которому вы доставите пакет, даст вам еще такой же, — сказала она.
Болезненно улыбаясь, араб попробовал монету на зуб и сунул ее в складки тюрбана.
Зуга с трудом разобрал слова молодого воина, назвавшегося Гандангом. Речь текла быстро, интонации были непривычными, но зловещие намерения индуны не оставляли сомнений. В словах его звучала воинственная решимость. Кольцо длинных черных щитов замкнулось наглухо.
Зуга надменно выпрямился, расправляя ноющие мышцы, и не дрогнув встретил взгляд вождя. Он невольно напрягся, словно мог силой воли остановить руку чернокожего воина, сжимавшую копье. Майор знал: стоило индуне взмахнуть широким блестящим лезвием, и две сотни амадода хлынут в крошечный лагерь. Все закончится мгновенно, почти без сопротивления, и победители даже не удосужатся вспороть чужеземцам животы в качестве уважения к врагу.
Пока твердый взгляд и бесстрашный вид белого охотника сдерживали копье матабеле, но это не могло длиться долго. Вот‑вот грянет боевой клич, и от слов, произнесенных сейчас майором, зависела жизнь всего маленького отряда.
Ганданг разглядывал странного бледнолицего человека, сохраняя бесстрастный вид, но на самом деле пребывал в растерянности — впервые за все годы королевской службы.
Чужеземец, называвший себя Бакела, упомянул также Тшеди и Манали. Их имена с почтением произносил отец, но одного этого не хватило бы, чтобы остановить руку индуны. Приказ короля был ясен: всякий, кто ступит на Выжженные земли, должен умереть. Однако белого охотника знала девушка, которую Ганданг собирался взять в жены. Чужеземец был братом той, которую Джуба называла амекази — матерью.
Лежа рядом с индуной на циновке, Джуба много рассказывала о человеке по имени Бакела, упоминая о нем с восторгом и благоговением. Она называла его могучим охотником на слонов и говорила, что ему оказывает почести всемогущая королева, живущая далеко за бескрайним морем. Джуба сказала, что Бакела — ее друг и защитник.
Потому Ганданг и не торопился крикнуть: «Булала — Смерть им!»
Настоящий индуна никогда не прислушивается к женским словам и причудам. Даже если у него пятьдесят жен, их голоса для него все равно что журчание воды на перекатах реки Ньяти. Мужчина не должен слушать женщину — во всяком случае, никто не должен знать, что он ее слушает.