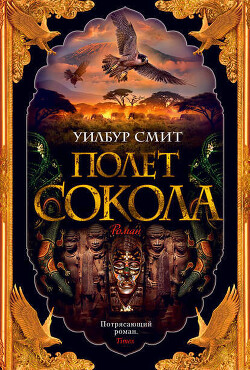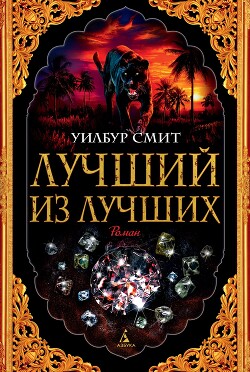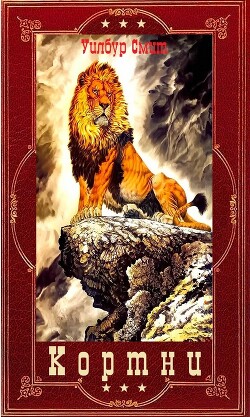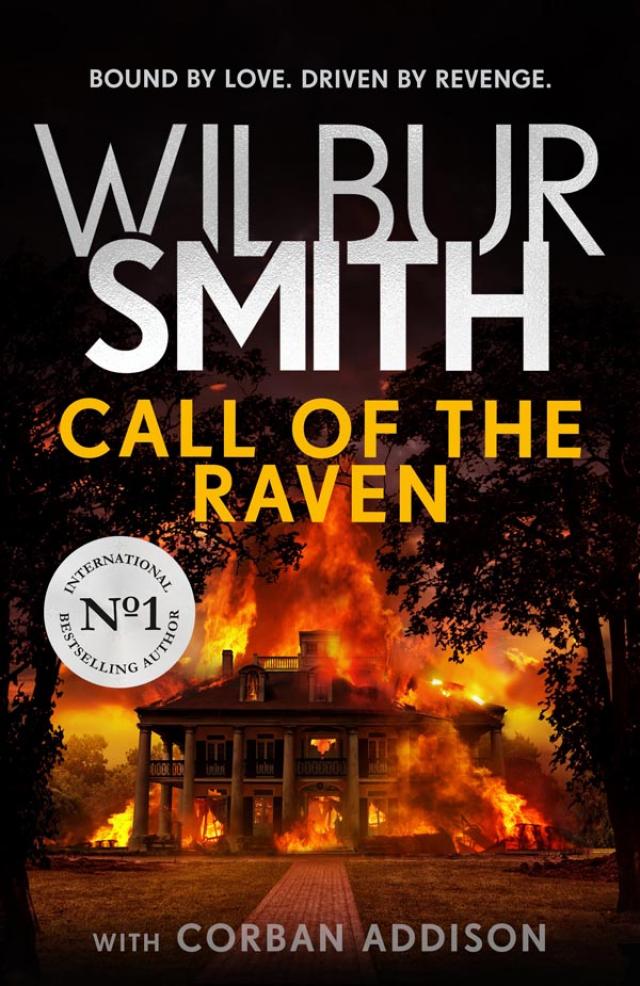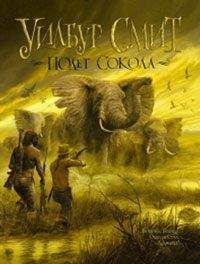Тропинка выходила на ровный уступ под самым гребнем холма, с одной стороны огражденного невысокой скалой. С отвесного склона открывалась захватывающая дух панорама лесов и саванн. Заходящее солнце окрашивало равнину золотым и розовым, над далеким густо‑синим горизонтом громоздились горы кучевых облаков с плоскими верхушками. Декорации для такого торжественного события были самыми подходящими, но Робин лишь мельком взглянула на пейзаж.
Косые лучи солнца освещали пещеру на всю глубину. Место выглядело давно обжитым: свод и стены почернели от копоти, пол чисто выметен, у входа — костер, обложенный почерневшими камнями, на которых стоял небольшой глиняный горшок.
На вытоптанной площадке у входа скопился всяческий мусор: обглоданные кости, клочки меха, деревянные щепки и осколки разбитой посуды. В нос ударил запах гниющих отбросов, нестираной кожаной одежды, дыма и экскрементов.
В дыму у костра скорчилась одинокая фигура. Древняя согбенная старуха под грудой грязных одеял, потертых и изъеденных молью, больше напоминала старую обезьяну, чем человека. Она не шевелилась, и Робин едва взглянула на это странное существо: ее внимание было обращено в глубину пещеры.
Освещенная последними лучами заходящего солнца, там стояла кровать из грубо обтесанных деревянных шестов, связанных веревками из коры, — кровать в европейском стиле, на ножках, а не африканская циновка для сна. На кровати, под скомканной грязной меховой накидкой, виднелись очертания человеческого тела.
На каменном выступе над кроватью лежала подзорная труба и деревянный футляр из тикового дерева — наподобие того, в котором Зуга держал секстант и хронометр, но старый и поцарапанный; рядом стояла жестяная коробка с вмятинами по сторонам.
Последний раз Робин видела эту жестянку в кабинете дяди Уильяма в Кингс‑Линне. Отец вытащил из нее бумаги, разложил на столе и склонился над ними; очки в стальной оправе сползли на кончик крючковатого носа. Размышляя, он подергивал себя за густую рыжую бороду.
Робин сдавленно вскрикнула, прошмыгнула мимо старухи, сидевшей у костра, и опустилась на колени у грубой кровати.
— Папа! — От волнения голос сорвался. — Папа, это я, Робин!
Меховая накидка не шелохнулась. Робин протянула было руку, но остановилась на полпути.
«Он умер, — горестно подумала она. — Я опоздала!»
Она заставила себя коснуться вонючей груды ветхих мехов. Груда просела, и лишь через несколько секунд Робин поняла, что накидка случайно приняла форму человеческого тела.
Сбитая с толку, Робин повернулась к женщине‑каранга. Та стояла у костра и бесстрастно смотрела на нее. Маленькая Джуба опасливо жалась к дальнему краю площадки.
— Где он? — Робин широко развела руками. — Где Манали?
Женщина опустила глаза. Робин озадаченно посмотрела на нее и перевела взгляд вниз, на нелепую фигуру, скорчившуюся возле костра.
Грудь сжал ледяной обруч, сердце замерло. Робин собрала все силы, заставляя себя шагнуть вперед.
Лицо женщины ничего не выражало. Она не поняла заданного по‑английски вопроса и выжидала с бесконечным африканским терпением. Робин хотела было вновь обратиться к ней, как вдруг живой скелет у крошечного дымного костра начал раскачиваться из стороны в сторону, невнятно напевая дребезжащим старческим голосом нечто вроде магического заклинания.
Прислушавшись, Робин различила шотландский акцент и слова — бессвязные и неразборчивые, они складывались в порядком искаженный двадцать второй псалом:
— Да, я иду долиною смертной тени, но не убоюсь зла…
Пение прекратилось так же внезапно, как началось. Хрупкая фигура перестала раскачиваться и застыла в неподвижности. Женщина наклонилась и бережно, как мать, раздевающая ребенка, откинула меховую накидку с головы и плеч сидящего.
Фуллер Баллантайн весь иссох, лицо его огрубело и покрылось морщинами, как кора старого дуба. Казалось, дым костра въелся в кожу, собрался в складках и покрыл лицо сажей. Волосы на голове и подбородке повылезали пучками, словно от какой‑то отвратительной болезни, а те, что остались, совсем поседели, окрасившись в табачно‑желтый цвет в уголках рта.
Живыми казались только глаза, выпученные и бессмысленные. Робин хватило одного взгляда, чтобы понять: этот человек лишился разума. Фуллер Баллантайн, великий путешественник, миссионер и борец с работорговлей, давно исчез, остался лишь грязный скорчившийся безумец.
— Отец… — Робин не верила своим глазам. Стены пещеры внезапно закачались. — Отец, — повторила она.
Скорченная фигура у костра разразилась пронзительным визгливым смехом, который перешел в бессвязное бормотание. Обрывки английского чередовались с полудюжиной африканских диалектов, голос безумца звучал все яростнее, тонкие бледные руки отчаянно молотили воздух.
— Я грешил против тебя, Боже! — кричал он, вцепившись в бороду скрюченными пальцами и выдирая седые клочья. — Я недостоин служить тебе!
Длинные ногти впились в сморщенную щеку, оставив длинную багровую царапину, хотя казалось, что в иссохшем теле не осталось ни капли крови.
Женщина каранга привычным ловким движением поймала костлявое запястье, удерживая руку. Она осторожно приподняла истощенное тело больного и без видимых усилий перенесла его на деревянную кровать. Фуллер Баллантайн теперь весил не больше ребенка. Одна нога его, закрепленная в импровизированной шине, неестественно торчала вверх.
Робин стояла у костра, опустив голову. Ее трясло. Женщина тронула ее за руку:
— Он очень болен.
Только теперь Робин подавила ужас и отвращение. Помедлив еще мгновение, она приблизилась к отцу и с помощью Джубы и женщины каранга начала осмотр. Привычный профессиональный ритуал помогал овладеть собой. Такого истощенного тела Робин не видела даже в трущобах, у изголодавшихся отпрысков пропитанных джином алкоголичек.
— Еды не хватало, — объяснила женщина, — но и того, что было, он не ел. Пришлось кормить его, как малое дитя.
Робин не совсем поняла, что имеется в виду, и решительно продолжила осмотр.
Кожа несчастного кишела паразитами, в седых лобковых волосах гроздьями висели гниды, тело покрывала корка грязи и засохших нечистот.
Ощупывая живот под торчащими ребрами, Робин ощутила под пальцами твердые очертания расширенной печени и селезенки. Фуллер Баллантайн громко вскрикнул. Припухлость и чрезвычайная болезненность, вне всяких сомнений, указывали на сильную и продолжительную малярию и полное отсутствие лечения.
— Где лекарство для Манали, где умути?
— Кончилось, давно кончилось. — Женщина горестно покачала головой. — Порох и пули для ружья — тоже. Все давно кончилось, а люди перестали приносить еду.
Оставаться в малярийном районе без запасов хинина было равносильно самоубийству. Фуллер Баллантайн знал это как никто другой. Признанный во всем мире эксперт по малярийной лихорадке и ее лечению — как мог он пренебречь собственными настойчивыми советами? Причину Робин поняла, когда заглянула больному в рот, заставив его разжать челюсти.
От болезни почти все зубы сгнили и выпали, горло и нёбо покрылись характерными бляшками. Робин отпустила челюсть, позволяя отцу закрыть изъеденный болезнью рот, и осторожно дотронулась до переносицы, ощутив мягкую податливость кости и хрящей. Сомнений не оставалось: болезнь зашла очень далеко и давно поразила некогда могучий мозг. Сифилис в конечной стадии, потеря рассудка и общий паралич — недуг, неизбежно ведущий к смерти безумца.
Ужас и отвращение Робин быстро сменились состраданием врача, глубоким сочувствием, присущим тем, кто свыкся с человеческим слабостями и легкомыслием и умеет их понимать. Стало ясно, почему отец не повернул назад, когда запас жизненно необходимых лекарств подошел к концу. Полуразрушенный мозг не распознал опасности, которую отец так подробно описывал.
Робин поймала себя на том, что молится. Слова приходили легко, будто сами собой: «Господи, суди его таким, каким он был, суди по его деяниям во имя Твое, не за мелкие грехи, а за великие подвиги. Узри его не жалким и разбитым созданием, а сильным и полным жизни, несущим безропотно долю свою».