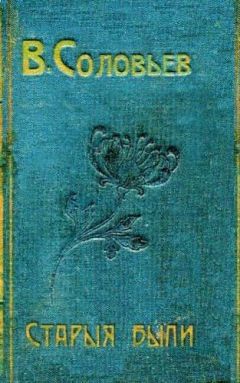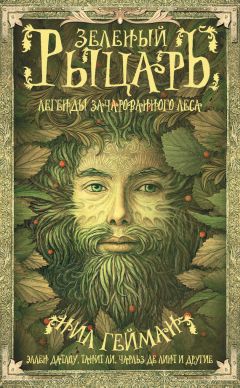Она видела в стекле свои заплаканные глаза, свое побледневшее лицо, которое от слез, от бледности было еще прелестнее, перед которым должно было стихнуть всякое раздражение. Но он продолжал:
— Я не люблю таких лиц. Слезы тебя не красят, слезливая женщина… да, ведь, хуже этого быть ничего не может! Смотри, берегись, Ганнуся, очнись вовремя, не то тебе и впрямь придется заплакать!!
«Что это? Он уже грозит ей!»
Да, в его голосе вдруг прозвучало что-то, что-то злое, холодное, страшное!
Она с ужасом взглянула на него.
«Он ли это? Он ли ее милый, ее добрый и ласковый!?»
Прежний, совсем было забытый страх ее к нему вдруг снова хватил ее за душу. Но это было одно мгновение. Он, по-видимому, понял, что зашел немного далеко, и успокоил ее ласковым словом и поцелуями. И она улыбнулась ему, засмеялась и прогнала свою тоску, свои неясные страхи.
Однако, ненадолго. Прошел день-другой — и опять неспокойна Ганнуся.
— Да что же это с тобой, наконец, сталось? — говорил ей муж.
— Сама не знаю, милый, сама понять не могу что со мною. Но только иной раз так мне тяжко, мне кажется, что я умру скоро…
— Ну, знаешь ли, наконец-то я понял! это так, причуды, это бывает в твоем положении… Подожди вот немного — и все пройдет, и все как рукой снимет…
Ждать приходилось недолго: у Ганнуси скоро родился здоровый мальчик. Новая жизнь началась для нее, новое чувство вспыхнуло в ней и охватило ее разом. Она опять повеселела, она не могла наглядеться на своего ребенка.
И граф был очень доволен; он уж не слыхал упреков. Он мог теперь, не стесняясь, уезжать из дому и долго не возвращаться: она так занята своим сыном, она почти не отходит от его колыбели.
Но он заблуждался. Новое чувство, как ни велико было оно, не отняло места у старого чувства в сердце Ганнуси. Она очень скоро заметила эти непривычные, долгие отлучки. Более того, она стала замечать многое, чего прежде совсем не замечала. Она начинала наблюдать, прислушиваться. Она сама еще не знала, что наблюдает и к чему прислушивается; но уже вся была настороже, вся в тревоге.
Она вдруг возненавидела этот странный мрачный дом, еще так недавно казавшийся ей заколдованным замком, полным самых прелестных и светлых видений. И в то же время ей захотелось, наконец, ознакомиться, как следует, с этим домом, обойти все закоулки.
Во время отсутствия мужа, когда ее новорожденный ребенок засыпал, а старшие дети весело играли с няньками, она начинала свои исследования. Она бродила по длинным коридорам, отворяла все двери, всюду заглядывала. Но многие двери оказались запертыми на крепкие замки. Она звала прислугу, спрашивала, что тут такое? Ей отвечали, что тут кладовые, или ходы на обширные чердаки или ходы в погреба.
— Отворите, я хочу взглянуть.
Но отворить было невозможно: ключи у его сиятельства. Муж возвращался. Она обращалась к нему с просьбой показать ей и кладовые, и чердаки, и погреба, и подвалы. Он удивлялся, зачем ей это, что там интересного.
— В погреба-то я тебя не пущу, ни за что не пущу, как ты там хочешь. Смотреть в них совсем нечего. Старые бочки с вином для тебя не могут быть интересными, а сырость такая, что того и жди разболеешься. Ох, уж этот мне дом! кажется, и хорошо построен, а видно все же какая-нибудь ошибка, или это донская вода действует, что сырость такая завелась в подвалах и погребах!..
— А все же-таки мне хотелось бы взглянуть. Пойдем, пожалуйста, покажи. А то, что же это: хозяйка я, и не знаю устройства нашего дома.
Граф качал головою и улыбался.
— Ну, а до сих пор-то что же не справлялась? Ишь, ведь, когда спохватилась! Да пойдем, пожалуй, коли уж тебе такая охота. В подвалы и погреба, сказал, не сведу, а кладовые и чердаки осмотрим; это можно…
И они отправлялись несколько раз все осматривать. Граф приказывал принести фонарь, сам отпирал двери. Крепкие замки звучно щелкали; потом раздавался скрип железных засовов. Тяжелые, дубовые двери распахивались — и мгновенно охватывал графиню сырой, затхлый воздух. Свет фонаря озарял обширные помещения, в которых хранилось много всякого добра.
Ганнуся все разглядывала и изумлялась. Чего только не было в этих кладовых и на этих чердаках! Тут и меха дорогие, и вещи серебряные, и много всякой всячины, и все-то такое красивое, дорогое…
— Милый мой, — говорила она, — так вот ты что тут под замками держишь, вот что от меня скрываешь! Не знала я, что ты такой скупой да жадный. Вот, ведь, чтобы жене хороший подарок сделать, а он под запором все держит!
Граф начинал смеяться, так непринужденно и весело отшучивался; но в то же время поспешно выбирал какую-нибудь ценную вещь и дарил ее жене.
— На вот… на, отвяжись только, да отпусти душу на покаяние. Ну, чего мы тут стоим! Уйдем, пожалуйста, а то у меня уже першить в горле начинает.
Они выходили. И опять с визгом захлопывались дубовые двери, и опять щелкали замки.
Ганнуся несла к себе новый подарок. Муж шутил и смеялся; а на сердце у нее все же было как-то неспокойно. Все ей казалось, что вокруг нее есть какая-то тайна, какая-то мучительная, страшная тайна, что от нее все что-то скрывают, а главное — он, он от нее что-то скрывает…
Опять лето было в полном разгаре; но уже не прежнее лето. Ни о чем прежнем не было и помину. Граф уезжал из дому иногда дня на два, на три. Завелись у него дела какие-то, по крайней мере, на вопрос жены он всегда отвечал односложно:
— Дела, дела!!
Прежде она удовлетворялась такими ответами; теперь она и хотела бы расспросить подробно, да уже знала, что с мужем не сладишь; что коли он раз замолчал, так уж ничего от него не добьешься.
— Какие дела?! Ишь ты, бабье любопытство! Ну что ты в нашем мужском деле смыслишь! Еду — значит, нужно ехать. Вернусь, как только все справлю, привезу тебе обновку, а ты жди меня, за детьми присматривай, да встреть меня веселей: так-то вот и ладно будет!
Он целовал, обнимал ее. Но ей казалось, что это уже не прежние поцелуи и ласки.
Он уезжал. Она оставалась одна со своею думой, со своими неясными подозрениями. Она часто сходила с высокой террасы дома и бродила по густому парку, доходившему до самого крутого донского берега. Этот парк влек ее теперь к себе неудержимо. Она полюбила его тень, его прохладу, его извилистые дорожки. Ей казалось, что здесь, именно в этом парке, какой-нибудь нежданный голос откроет ей непонятную тайну, лишившую ее покоя. Но пока еще не прозвучал этот голос, она бродила погруженная в свои мысли и тревожные грезы. Бродила иногда, не сознавая где она, куда идет и сколько времени продолжается ее прогулка.
В особенности она любила этот парк вечером после солнечного заката, когда последние отблески зари постепенно бледнели на верхушках деревьев, когда мало-помалу в темнеющей синеве небесной загорались одна за другой частые звезды и вдруг выбравшийся из-за леса полный месяц озарял все своим тихим светом и менял очертания предметов.
Тогда Ганнуся выходила на широкую аллею, по которой все ярче и ярче ложились серебряные полосы, и спешила дальше и дальше, к маленькой каменной беседке, выстроенной на уступе высокого берега.
Отсюда перед нею открывалась широкая картина. У самых ног тихий Дон катил свои волны, едва слышно плескавшиеся о берег. Дальше, на луговой стороне, мелькали, покрытые легким туманом, безбрежные поля, однообразие которых кой-где нарушалось далекими деревеньками и полосками лесов.
Ганнуся садилась на каменную скамью беседки и отдавалась очарованию влажной ночи, и подолгу, подолгу глядела на звезды, глядела в туманную даль и мечтала и плакала о неведомо почему потерянном счастье, и отгоняла страшные грезы о непонятных грядущих бедах.
Но эти грезы не уходили. С каждым днем в ней крепла уверенность, что над нею должно стрястись что-то ужасное. И она верила в это предчувствие души своей, и ждала с сердечным замиранием рокового удара.
Очнется она на мгновение, отгонит мрачные грезы, и сама на себя дивится: «Да что же это такое? Из-за чего я так мучаюсь? Чего я жду? Откуда взялось все это? Уж не больна ли я? Чего мне бояться…и кого же бояться? — его? — Ведь, это грех тяжкий, грех мой перед ним. Это искушение, это наваждение дьявольское!..»
Она твердо решалась победить в себе глупые страхи и быть по прежнему счастливой и довольной. Но этой решимости хватало не надолго. Странное предчувствие не покидало ее, и бороться с ним она не была в силах.
И вот, в один из таких теплых и лунных вечеров, сидела она в беседке, погруженная в полузабытье, и не замечала как шло время, как приближался час поздний. Ей некуда было торопиться: дети спали, муж с утра уехал и сказал, что не вернется дня два, а, может, и больше. Сидела она окруженная тишиною и даже дремота начинала ее охватывать, как вдруг странные и нежданные звуки заставили ее очнуться. Она вздрогнула, поднялась с каменной скамьи и стала чутко прислушиваться.