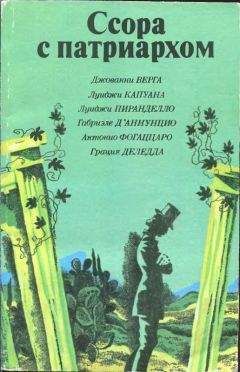Солнце проникало сюда с трудом, как в колодец, горизонт на три четверти был закрыт, и только справа, в просвете между двумя утесами, просматривались голубой простор и серебряная полоска вдали — море.
Внук старика высунул из хижины свою курчавую черную голову.
— Идут, — объявил Антиоко.
— Кто идет?
— Священник и стражник.
Парень выскочил из хижины, стройный и волосатый, как и его козы, и принялся ругать стражника, который без конца вмешивается не в свое дело.
— Сейчас я ему все ребра пересчитаю, — пригрозил он. Однако, увидев собаку, отступил, а та побежала к местному псу, и они стали обнюхивать друг друга в знак приветствия.
Антиоко взял свой ящичек и сел на камень против голубого проема в каменной ограде, откуда видны были бесчисленные шкуры животных, разложенные на скалах для просушки: черно-серые в полоску — кабаньи и, темные в золотых пятнах — куньи; виден был отсюда и старик, лежащий в хижине на шкурах, его седые волосы и темное бородатое лицо, на котором уже проступила печать смерти.
Священник склонился к умирающему с вопросом, но тот не отвечал — глаза закрыты, губы лиловые, и капелька крови в углу рта.
Немного поодаль стражник, присев на камень, — собака улеглась у его ног — тоже глядел в хижину, негодуя, что умирающий нарушает закон, то есть не называет свою последнюю волю. И Антиоко, помрачнев, отвел от него глаза невольно подумав о том, что стражник охотно натравил бы собаку на старого упрямца.
Священник в хижине все ниже склонялся к старику, зажав сложенные руки между колен. Большой лоб его навис над измученным лицом больного, губы неприязненно оттопырились.
Он тоже молчал. Казалось, забыл, зачем он тут, к внимал только голосу ветра, напоминавшему далекий плеск моря. Внезапно собака стражника с лаем вскочила, и Антиоко услышал над головой шум крыльев. Он обернулся и увидел на скале орла, прирученного старым охотником, с сильным, словно небольшой рог, клювом: его огромные крылья, похожие на веер, величественно раскрывались и закрывались с коротким хлопком.
Сидя в хижине возле умирающего, Пауло думал: «Вот оно — лицо смерти. Этот человек бежал от людей, потому что боялся слишком много грешить. И вот он здесь — камень среди камней. Точно так же буду умирать и я — через тридцать, сорок лет, после вечного изгнания. А она, наверное, еще ждет меня сегодня вечером…»
Он вздрогнул. Ах нет, нет, он еще не мертвец, как ему показалось было. Жизнь кипела в нем, пробуждалась сильно и упрямо, подобно орлу среди камней.
«Надо было бы заночевать тут. Если я не вернусь к ней этой ночью, я спасен. Ну, Пауло, держись».
Он вышел из хижины и в задумчивости опустился на камень рядом с Антиоко. Закат уже окрашивал горизонт красноватым светом. Тени удлинялись — от утесов и кустарников. Листья трепетали на ветру, и казалось, на ограде дрожали солнечные блики. Вот так же и он не мог разобраться в самом себе — где тень, где свет, не мог понять, какое из его желаний было сильнее.
— Старик уже больше не в силах говорить. Началась агония. Сейчас начнем соборовать. А когда он отойдет, надо позаботиться о том, чтобы перенести его тело вниз. Надо бы… — добавил он тихо, но так и не решился закончить фразу, он хотел сказать: «Надо бы переночевать тут».
Антиоко поднялся и приготовил все, что нужно для, соборования. Он открыл ящичек, с удовольствием щелкнув серебряными застежками, достал скатерть и чашу, развернул плащ и набросил его себе на плечи — казалось, это он священник.
Когда все было готово, они вернулись в хижину, где внук старика, стоя на коленях, поддерживал голову умирающего.
Антиоко опустился на колени с другой стороны, и полы его плаща ярким пятном легли на землю, расстелил скатерть на камне, служившем стулом. Серебряная чаша отражала красный цвет его плаща.
Стражник тоже преклонил колени возле ограды, рядом со своей собакой.
Священник помазал елеем лоб старика и его ладони, которые за всю жизнь не совершили ни одного насилия, помазал ноги, которые увели его подальше от людей, как от самого страшного зла в мире.
Заходящее солнце посылало в хижину свои последние приглушенные лучи, в свете которых Антиоко выглядел рядом с умирающим и священником словно раскаленный уголь среди пепла.
«Надо возвращаться, — подумал Пауло, — незачем оставаться тут».
— Совсем плох, — сказал он стражнику, выйдя из хижины, — уже без сознания.
— Коматозное состояние, — уточнил стражник.
— Еще несколько часов, и он умрет. Надо позаботиться о том, чтобы перенести тело вниз. — И он опять хотел добавить: «Надо бы переночевать тут», но устыдился своего притворства.
В то же время он чувствовал, что ему хочется двинуться в обратный путь, вернуться в село. С наступлением вечера грех снова манил его, словно опутывал сетью из тени. И он понимал это и пугался. Но в глубине души был настороже, чувствовал, что совесть его не дремлет, готова помочь ему.
«Только бы не видеть ее этой ночью, и я спасен».
Если бы кто-нибудь мог задержать его! Если бы старик поднялся и схватил его за одежду!
Он снова сел и попытался сообразить, который час. Солнце уже зашло за верхнюю линию плоскогорья, и там, наверху, стволы дубов вырисовывались на красном горизонте, словно колонны портика, обрамленного большой черной каймой. Даже смерть не нарушала покоя этого великого уединения.
Пауло почувствовал усталость, и ему так же, как утром у алтаря, захотелось лечь на камни и уснуть.
Тем временем стражник начал действовать. Он опустился на колени возле умирающего и что-то зашептал ему на ухо. Внук охотника смотрел на него с подозрением, но ухмыляясь про себя, а потом подошел к священнику и сказал:
— Теперь, когда вы выполнили свой долг, идите, идите с миром. Дальше я все сделаю сам.
Стражник вышел из хижины.
— Он уже не в силах говорить, — сказал он, — но по одному его знаку я понял, что он уладил все свои дела. Никодемо Пания, — добавил он, обращаясь к внуку, — по совести скажи, можем ли мы уйти со спокойной душой?
— Если бы не святое причастие, так вам незачем было бы и приходить сюда. Какое вам до меня дело?
— Надо уважать закон! И помалкивай, Никодемо Пания!
— Перестаньте, не надо кричать, — вмешался священник, кивнув в сторону хижины.
— Вы меня учите, что в жизни самое главное — это долг, что нужно всегда выполнять свой долг, — заметил стражник.
Задетый за живое, священник быстро поднялся. Все теперь трогало его сердце, и ему казалось, будто сам бог изрекает свои желания людскими устами.
Он сел на лошадь и сказал внуку старика:
— Не оставляй своего деда, пока не скончается. Бог велик, и мы никогда не знаем, что может случиться.
Парень пошел проводить их.
— Послушайте, — сказал он, когда они отошли подальше от стражника, — дед дал мне деньги. Вот они тут у меня, под мышкой. Не так уж много, но сколько бы их ни было, могу я считать их своими?
— Если он дал их только для тебя, значит, они твои, — ответил Пауло и обернулся, чтобы посмотреть, следуют ли за ним остальные.
Они шли за ним. Антиоко опирался на палку, которую сделал себе из ветки какого-то твердого дерева. Стражник, козырек и пуговицы которого поблескивали в сумерках, прежде чем ступить на тропинку, обернулся и отдал честь хижине. Он отдал честь смерти. И орел словно ответил ему из своего гнезда, еще раз похлопав крыльями перед сном.
Ночная темнота быстро поднималась навстречу им из долины и вскоре совсем окутала троих путников. Однако на повороте тропинки за рекой далекий свет, доходивший из деревни, осветил им дорогу. Казалось, там наверху пылает пожар. Яркие огни горели на скале, и стражник рассмотрел своим острейшим зрением, что на площади у церкви двигается много теней.
Была суббота, и почти все мужчины вернулись в село, но это никак не объясняло, почему горят такие костры, а люди в таком необычном волнении.
— Я знаю почему! — радостно воскликнул Антиоко. — Они ждут нашего возвращения, чтобы отпраздновать чудо Нины Мазии.
— О боже, боже! Как же ты глуп, Антиоко! — вздохнул священник, почти со страхом глядя в сторону села, освещенного огнями.
Стражник ничего не сказал, только сердито дернул за поводок, и собака залаяла. Глухой лай эхом прокатился по долине, и священнику в страхе показалось, будто это какой-то таинственный голос упрекал его в злоупотреблении простодушием своих прихожан.
«Что я сделал из них? — пытал он себя. — Уничтожив себя, я уничтожил их. Господи, спаси нас и помилуй!»
И он решил сейчас же, въехав в село, совершить героический поступок: выйти в центр площади и перед всем миром покаяться в своем грехе, раскрыть перед людьми свое ничтожество, открыть свою душу и обнажить несчастное сердце, жалкое, но охваченное огнем великого горя, и огонь этот гораздо сильнее, нежели костры из сухих веток, которые пылают на скале.