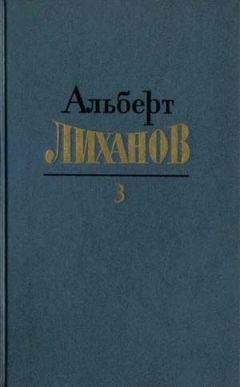Все остальное вам про него уже известно. Он мой дружбан, живет в квартале от школы, мать его крестница нашей Анны Николаевны, брат Стена, который теперь воевал, у нее учился, Вовка учится.
В ту самую пору мы увлекались чтением снизошло к нашему возрасту это счастливое благоволение. Ведь в кино тогда показывали один и гот же фильм по нескольку месяцев, телевизор еще только изобретали какие-то шибко умные ученые, может быть, из тех же, кто придумал атомную бомбу, и у нас, особенно к концу третьего класса, много свободы оставалось.
Задавать стали меньше, дни стали дольше, впереди маячило долгое лето, но пока еще не манила к себе речка потеплевшей водой, не тянул своей ленью разогретый песок на берегу, мы бегали в библиотеку, глотая с необыкновенным аппетитом одну книжку за другой до тех пор, пока не споткнулись о толстенных «Трех мушкетеров». Вообще-то чудесная эта книжка имелась там в единственном экземпляре, а оттого содержалась в читальном зале, предназначенная для всех. Первым из нас двоих обнаружил ее Вовка, принялся было читать, но на другой день кто-то опередил его, и он, тоскуя от неудачи, пришел ко мне домой и стал с жаром рассказывать про мушкетеров. Мы тут же отстругали себе деревянные шпаги и начали сражаться.
Биться вдвоем друг против друга, да еще и друзьям, показалось нам скучновато, к тому же мушкетеры сражались против врагов вчетвером: Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян, нас же всего двое, да и между собой-то мы еще не уяснили, кто есть кто. Со смешанной этой целью — найти еще двух друзей, а с ними и неисчислимое число врагов — мы двинулись, закинув шпаги на плечи, к Вовкиному дому — мальчишечьего люду там обреталось поболе. А по дороге напоролись на Анну Николаевну. Она шла домой с портфелем в одной руке и с толстой пачкой ученических тетрадок в другой.
Пришлось помогать. Вовка взял тетрадки, портфель учительница мне не доверила, так что я плелся позади них, то скучая, то представляя, что замыкаю королевский кортеж, который, впрочем, мало на сие походил.
— Ох, Вовка, Вовка, круглая головка, — проговорила, вздохнув Анна Николаевна, искоса и сверху поглядывая на моего друга.
Я негромко хихикнул. Рифмуя Вовкино имя, можно было немало забавного насочинять. Мне сразу в голову пришел следующий экспромт: «Вовка, Вовка, красная морковка!» А учительница выпытывала из моего друга всякие такие подробности — что, мол, за палки у нас в руках — охо, палки, да это шпаги! — а разузнав про недочитанную книгу, рассмеялась и предложила:
— Да я вам сейчас ее дам! Она у меня есть! Только — чур! — не потерять, не запачкать, стакан с чаем на страницы не ставить, в газетку обернуть!
Радость окатила и Вовку, и меня, так что мы и не обратили внимания на то, что говорила Анна Николаевна дальше. А она Вовку все расспрашивала про его мать: как она, да что. Как с сердцем, давно ли вызывали врача, принимает ли она по ночам лекарства. Вовка отвечал хоть и нетерпеливо, но подробно, спорить с учительницей не приходилось, и весь этот разговор мне не показался хоть сколько-нибудь значительным.
А зря. Впрочем, повторюсь: дети не страшатся будущего. Они не предполагают. Они живут настоящим.
Но за спиной у нас раздался цокот лошадиных копыт, мы сдали на обочину дороги, не оборачиваясь и продолжая наш путь, да сердитый голос повернуться все же заставил.
— Тпру-у! — прокричал кто-то басом, и мы увидели самую нарядную бричку на резиновом ходу, которую за версту узнаешь и которая принадлежала директору вонючего бакинститута, а на облучке, конечно же, сидел — борода лопатой — мой дальний сродственник, тети Варин отец, бывший водовоз и истопник нашей школы, дочке которого Анна Николаевна приходилась крёстной.
— Анниколавна! — пробасил извозчик. — Садись, подвезу!
Но учительница наша хитровато осмотрела его и ответила:
— Ну как можно! Я же не одна!
— Хэк! — крякнул бывший водовоз и истопник, а ныне водитель руководящего транспорта. — Дак мы вас и всех поднимем!
Вот это была красота! Первый и единственный раз прокатился я в этаком мягком лошадином возке. Это вам не телега какая-нибудь была! Бричка не тарахтела по булыжникам, а только слегка покачивалась, колеса не гремели, негромко и сладостно шуршали, и дома по бокам улицы неторопливой рысцой, ио все-таки пробегали, а не плелись мимо нас,
Мы с Вовкой радостно похихикивали, наслаждаясь сладостными минутами, улыбалась и наша наставница — однако получалось у нее это как-то совсем по-особенному. Езда в экипаже на мягком ходу вызывала у нее, похоже, не какую-то там элементарную радость, а приятные, хотя и неблизкие воспоминания. Она улыбалась не нам, не мягкому покачиванию, не возчику — бороде лопатой, и даже не справному коньку, который вез нас к дому учительницы, а своему, нам невидимому, прошлому.
С шиком подвез нас удобный экипаж к двухэтажному старому дому, где жила учительница, как и что сказала Анна Николаевна своему бывшему сослуживцу, я не помню, но хорошо зато помню, как он лихо развернулся и удалился в какой-то туман, вдруг обступивший нас, — впрочем, это мог быть туман моей памяти — тихо, почти бесшумно удалилась бричка на резиновом ходу в мое стремительно уходившее прошлое, из моего настоящего — в мое подсознание.
И вот мы вошли в комнату учительницы.
Больше всего я запомнил большой-большой, до потолка, книжный шкаф. В нем были стеклянные дверцы, а за ними сияли золотом старинные, дореволюционного происхождения, корешки толстенных книг. Это сияние показалось мне отраженным светом чего-то давнего, мною непонимаемого, но совершенно прекрасного. Корешки горели притушенным и слегка печальным великолепием неясного мне былого, забытым первоначалием, когда они были главнее всех, и еще — тоской. Гордой, непризнаваемой вслух, но тоской по уважавшему их прошлому и безнадежным ожиданием неясного будущего.
Книжный шкаф взблеснул в мою сторону усталым минувшим, Анна Николаевна протянула нам том Дюма, и, поворачиваясь к двери, я зарегистрировал в своем сознании еще высокую железную кровать с блестящими набалдашниками и множеством подушек, небольшой столик, где в овальных рамочках стояли старомодные, тоже из прошлого, портреты, да два-три венских стула с изогнутыми спинками. На полу же лежал вязаный половичок — такими торговали немолодые женщины на базаре — плоды их собственного труда, да и назывались-то половички неспроста домоткаными, то есть сделанными просто дома.
Чаще всего такие половички были в деревенских избах, горожане их слегка как будто стеснялись, а наша учительница — нет, не постеснялась, и я вышел из ее комнатки со спутанными чувствами. Будто в учительницыной светелке перемешались надежды и безнадежность.
«Трех мушкетеров» мы одолели быстро, книгу обернули газеткой и не испачкали, вернули ее в первозданной чистоте. Правда, вот еще двух верных мушкетеров нам с Вовкой найти не удалось. Были, правда, временные друзья и попутчики, еще больше было противников, с которыми мы сражались до изнурения нашими деревянными шпагами, но жизнь по-взрослому подготовила нас к выходу из мира забав и давно написанных книг к взрослым полям, по которым гоняет колючий ветер бед, не предназначенных для нас, но нас обжигающих и делающих старше.
Вовка потом заметил мне, что Анна Николаевна расспрашивала его тогда понапрасну, потому что месяца два, а то и три приходила к ним каждый день, но не тогда, когда его мать была на дежурстве и не для того, чтобы сготовить Вовке суп и похлебать вместе, а как раз когда мать была на месте.
Анна Николаевна в каждом доме, даже почти родственном, как у Вовки, была гостем необычным, солидным, значительным, просто так времени не теряющим, но дружбан мой говорил, будто она проводит у них долгие часы, и на мой вопрос: «А чё делает?» — отвечал: «Просто сидит. Просто говорит».
Я с недоверием покачивал головой, что-то мне все это казалось неясным, но в один день все прояснилось, и вот каким горьким образом.
Вовка исчез на день, потом появился в классе, и на нем не было лица. Круглоголовый мой друг как-то сморщился и даже, кажется, постарел, хотя дети, дело ясное, стареть не могут — они могут только взрослеть.
Но вот! — Вовка постарел и шепнул мне, глядя в сторону:
— Похоронка на Степу!
Я сжал его руку повыше локтя, и у него в глазах заблестели слезы. Он торопливо смахнул их, мы слушали урок — и не слышали его, конечно. Я думал про Вовку, как он будет теперь и как его мама Анастасия Никитична выдержала такое известие.
Можно догадываться, предполагать, но думать о том, как страдает твой друг, это совсем другое, нежели самому страдать. Твое волнение, понимание и даже слезы, обозначающие сочувствие и сострадание, вовсе же не само чувство и не само страдание.
Из школы мы шли медленно, совсем другие, чем еще пару дней назад, не понимая, что кто-то уже украл у нас наивность трех мушкетеров с Д’Артаньяном впереди, где нет настоящих горестей и выручка друзей способна спасти от любых испытаний. Мы шли неторопливо, торопливо взрослея, и во мне выступали, съезжаясь вместе, прежде неясные сцены: как бежит, не узнав меня, приветливая почтальонка Рита по школьному коридору, а потом обрывает урок Анна Николаевна, чего с ней прежде никогда не случалось, а позже приговаривает: «Вовка, Вовка, круглая головка» и не жалеет для нас редкой книжки.