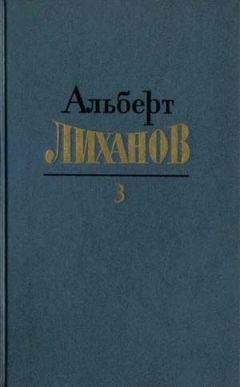Все это сдвигалось, сходилось, стыковалось в моей голове воедино Вовкиными краткими фразами, потом, позже, уточненными и дополненными, и незабвенная наша Анна Николаевна, как и всегда прежде, оказывалась в середине событий, пока еще не подвластных нашим умам.
Взрослое как-то так удивительно выступало вперед, заступаясь за нас, малых, обороняло от боли тем, что боль эту предъявляло совершенно странным способом,
Итак, Рита, некрасивая, но добрая почтальонка и одноклассница Степы, получила на почте похоронку на имя Вовкиной матери. И открыла ее. И, конечно, заплакала. Испугалась нести бумажку эту горькую. Недолго думая, кинулась в школу, к учительнице, ведь Анна Николаевна учила их обоих, учила Вовку и их со Степой мать, да еще и была ее крёстной матерью. Анна Николаевна велела Рите молчать, а похоронку забрала. И все заходила к своей крестнице, говорила о разных разностях, присматривалась, как та чувствует себя, и не решалась сказать про Степу. Еще к Вовкиной маме постоянно приходили врачи, сказал дружбан. Просто так приходили, без всякого вызова. Это Анна Николаевна посылала своих учеников. Мерили давление, считали пульс, оставляли ценные лекарства. Вовкина мама удивлялась и говорила ему: «Это неспроста». А он смеялся. Ничего не понимал, маленький лопоухий щенок.
Но потом Анна Николаевна пришла снова, когда Вовка и мама его были вместе. Заплакала и сказала, что Степу убили.
— Понимаешь, какая штука, — рассказывал мне Вовка, — учительница плачет, я плачу, а мама — нет. Говорит: я давно все поняла. И еще Анну Николаевну утешает. Понимаешь? Вышло все наоборот.
А потом, когда мы уже подросли, он прибавил:
— Это же Анна Николаевна все так устроила. Мамина крёсна…
* * *
Крёсна. Крёстная мать.
Крёстная мать — не та, что родила, а та, что приняла тебя из купели и потом, как родная, всю жизнь свою, как умела, как понимала, как считала нужным, берегла тебя.
Учительница моя не была моей крёстной.
А все-таки была…
Где вы, дорогая моя Анна Николаевна? На каком небесном облачке? В какой небесной сини?
Вы слышите меня? Так вот что хочу вам сказать.
Вас давно уже нет. Но вы есть.
Вы есть во мне.
Вы есть — по-разному — во всех, кто учился у вас и кому вы крёсна навсегда — вашими уроками и вашей жизнью.
Благодарю и помню вас, милая наша крёсна.
Но я не там, не на далекой улице моего детства простился со своей учительницей, когда Вовка перехватил из ее руки стопку наших тетрадей, перевязанную бечевкой, а она, уже давно зная про его беду, произнесла непритязательные свои стишки: «Вовка, Вовка, круглая головка».
Судьбе было угодно, чтобы я простился с учительницей моей вполне взрослым человеком и вполне осознанно. Мне кажется, кто-то всем распорядился помимо моей воли — нет, с моей волей, конечно, но так, словно этот кто-то неслышно подсказывал мне, что и как должен был сделать.
Вот как это было. Незадолго до того, как мне стукнуло аж целых сорок лет, на меня навалилась беда: я заболел и, как узнал лишь много лет спустя, заболел самым тяжким, чем только болеют люди. Долго лежал в больнице, вовсе не думая о худом, — люди, оказывается, устроены так, что надеются до самого последнего мгновения, — потом была операция, я вышел из больницы, и, хотя много лет еще висела надо мной угроза, я, не зная о том, радостно кинулся в новую суету.
Она-то, пожалуй, и заставила поехать на литературные выступления в родные края, упекла в места дальние и морозные, да так, что свободным остался только вечер перед отъездом.
Я взял машину и поехал на кладбище, чтобы поклониться родным могилкам. Мела поземка. В синих сумерках, проваливаясь по колено в снег, я пробрался к дорогим крестикам, постоял перед ними, сняв шапку, ежась от ветра и холода, потом выбрался на дорогу и поехал назад.
Я знал, что до поезда есть часа три, дела все исполнены, сумка с вещами собрана, и в душе, я почувствовал, образовалось ничем не заполненное пространство.
В этот миг кто-то мне и шепнул:
— Поезжай в школу.
Я знал, что в старой моей школе давно никого не учат и что-то там вроде спортивной базы: в классах, где мы учились, хранятся лыжи и коньки. Но школьный дом строился по-старому, при нем были комнаты, где когда-то жила наша директриса Фаина Васильевна, да еще и технички, и я попросил подвезти меня по давнему адресу.
Дверь была открыта, я вошел в школьное фойе, освещенное одинокой тусклой лампочкой, приблизился к запертым дверям, где раньше жили технички, постучал.
Странно, но сердце билось неровно: отчего-то мне показалось, что откроет ученица Анны Николаевны Нюра. Та самая, которая заваривала нам сосновую хвою в эмалированном ведре и топила свои бесчисленные печки. Но, конечно, эта надежда оказалась наивной — ведь столько лет прошло, — и на пороге появилась другая, совсем незнакомая мне женщина, правда, одетая бедно, как в те давние военные времена — в неновую телогрейку, в валенках с галошами, на голове темный платок.
Я сказал, что когда-то тут учился, и спросил, не знает ли она, случаем, что-нибудь про учительницу мою Анну Николаевну — жива ли она?
Женщина оказалась сведущей, обрадовала сразу, что учительница жива, хотя и очень старенькая теперь, и что жива также Фаина Васильевна, но если она не знает, где находится Анна Николаевна, то к Фаине Васильевне идти надо так-то и так-то: три квартала прямо, упрешься в большой дом, подъезд со ступеньками, третий этаж, первая дверь по праву руку.
Подобные разъяснения действуют и по сей день в нашем старом городке, и я, поклонившись, двинулся к цели, повторяя про себя объясненный маршрут.
Чудеса! Я быстро нашел Фаину Васильевну, и странное дело — она ничуть не удивилась ни моему явлению, ни просьбе сводить меня к Анне Николаевне, словно вот сидела тут в своей светелке, куда я только на минуту и заглянул, и ждала, когда же я, наконец, приду и почему так долго не появлялся.
Я помог старушке надеть ее повытертое пальтецо, и мы двинулись морозной улицей, а Фаина Васильевна принялась расспрашивать меня про мое житье-бытье.
Мне все хотелось понять, помнит ли директор школы такого ученика, как я, как Вовка Крошкин или Нинка Правдина, и, удивительное дело, не только про них, но и про тех, о ком я уже забыл, она рассказывала с толком и в деталях.
Потом мы подошли к дому из серого невзрачного кирпича, я пропустил Фаину Васильевну в подъезд, — а был зимний вечер, помнится, на улице уже совсем стемнело, и тут в подъезде погас свет. Мы посмеялись над мелкой неурядицей, проводница моя предложила следовать за ней на ощупь, и наконец мы вползли на нужный этаж.
На стук дверь сразу распахнулась, нас встретила приветливая седая женщина одних, наверное, с Фаиной Васильевной лет, моя провожатая объяснила, в чем дело, я разделся, шагнул вперед и — о, Господи! — очутился в моем военном классе.
Моя милая учительница сидела на диване, и перед ней горела свеча. Анна Николаевна улыбалась, а когда я сказал свою фамилию, назвала меня по имени:
— Коля!
Ей-богу, я не помню, о чем мы говорили. Многое помню, а вот этого последнего разговора не помню, только отдельные фразы.
Меня свеча заколдовала.
Конечно, я понимал, что уже взрослый и дело происходит не в школе, — но не понимал. Движения мои стали тягучими, медленными, мысли ворочались еле-еле, и я никак не походил на себя: что-то вроде гипноза вязало меня, мои слова, мои движения.
Я только смотрел. Просто смотрел.
Никак не мог насмотреться.
Анна Николаевна сидела на диване, укутавшись во все тот же старый платок, и все то же строгое платьице с белым отложным воротничком было на ней. Да и сама она была все той же — сухонькой старушкой с волосами, зачесанными на пробор.
Конечно, я понимал, что она постарела, я слышал ее слова про сломанную ногу — поэтому она не может вставать, ее воспоминания про наш класс и Вовку Крошкина, но это, как ни странно, обходило меня, облетало, как незначительное, не самое важное, — хотя зачем же я сюда пришел, если не услышать слова учительницы?
Меня потрясало мое зрение. Я видел свечу, лицо учительницы, и эта сцена опрокидывала меня сквозь время в мое ушедшее детство.
Я сидел опять на уроке, не смея пикнуть, как мышонок. Кажется, даже мое дыхание замедлилось.
В какой-то миг я все же очнулся — ненадолго. Я спросил слабым детским голосом, помнит ли Анна Николаевна, как покупала нам витамин С в аптеке на деньги от ордена Ленина? Как потом продала свою Нефертити?
Она не помнила! Только про камею сказала, что да, такая у нее была давным-давно, подарок ее родителей по случаю окончания педагогического училища, но потом куда-то подевалась.
Я спросил ее про сосновую хвою.
И снова она не помнила!
Тогда я просил ее про Вовкиного брата Степу, почтальонку Риту и как она сама сказала матери о гибели сына. А та ее утешала.