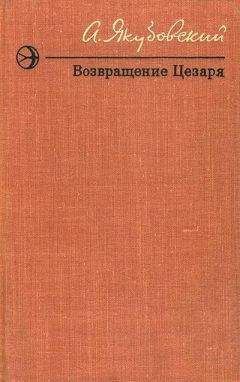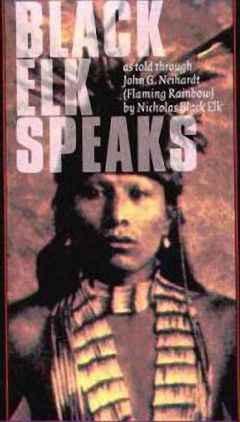К нам подошли ребятишки в длинных, серого холста, рубашках, стали вокруг и запустили грязные пальцы в носы.
— Сахару хотите? — спросил я. Ребятишки брызнули во все стороны.
Так и сидели мы одни.
Медленно наливалась ночь.
На небо лезли звезды.
Вылез и месяц — тонкой и неровной серебристой льдинкой, как в подстывающем ведре.
На мягких крыльях проплывали совы.
Вороньим гнездом чернел дозорный на макушке сосны.
На берегу невидимая выпь, сунув нос в воду, ревела:
— Ву-у-у!.. Бу-у-у!..
— Много их? Ты считал? — спрашиваю Николу.
— Чокнутых-то? Человек тридцать будет, ну и пацаны, конечно... Десять коров, телята... Ты что-нибудь понимаешь в этом? — спрашивает Никола.
— Пока — нет. А ты?
— Я так понимаю — отбились от людей и спрятались сюда. Бывшие преступники.
— Ну, это ты загнул. Это, конечно, староверы. Слыхал я о таких вот деревнях, да не верил. Темный, несчастный народ.
— Несчастный? А чего они прячутся? Чего в болота залезли?
— Секта, быть может, такая. Не знаю.
— То-то же! Хороший человек не будет прятаться, будь спокоен. Мы вот не прячемся. А эти, наверное, всегда таятся... Брезгуют. Чашку им, видишь ли, опоганишь. Слыхал?
Я ковыряю землю каблуком. Никола закурил, и ему легче. Сидит, молчит, пускает дымок и, разглядывая его, организует мысли. Я пытаюсь обдумать все, прикидываю так и этак.
Но разбираться некогда. Поужинав, люди тропками бредут к нам. Идут не спеша, сытно и громко рыгая, плывут в темноте серыми призраками.
А навстречу им с болот ползет туман. Странно, они в чем-то подходят друг к другу, соответствуют, эти худосочные, низенькие, бородатые мужики в длинных рубахах — рыхлые пласты тумана.
Вот собрались вокруг, присели на завалинку, на крыльцо. Сидят, молчат, щупают взглядами.
Молчат болотные люди, молчим и мы. Николай беспокойно теребит ремень карабина.
Но вот они, покашливая, заговорили между собой глухими, лесными голосами. Говорили о том, о сем. Говорили о болотных странных звуках, о том, как «он» водит в утреннем тумане и норовит завести доверчивого человека в топь. Сам идет впереди и сядет в просове, приняв вид обыкновенного лесного мужика, даже опояска из крашеной веревочки. Тут нужно не прозевать — положить крест. Тогда «он» ухнет и нырнет в трясину.
Потом заговорили о делах обыденных, о прошедшем дне. Сами смотрят то на нас, то на пригорок.
Наконец, по тропочке пришел еще один. Шел неторопливо, воткнув большие пальцы рук за опояску. Подошел: бородат, широколоб, приземист. Лицо поковыряно оспой, борода пегая. Протянул черную ладонь. Тиснул руки, глубоко впечатывая пальцы. Никола зашипел, затряс кистью.
— Здорово, чужане, — сказал пришедший веселым голосом. — С юга? Подвиньтесь-ка!.. Я — Сидор Парменов, здешний кузнец. Ну, каково ваше житие под властью антихриста? Ишь ты, курит. «Всяк злак на пользу человека». Ну, ну, рассказывайте, что ли.
И стал выспрашивать обо всем. Остальные придвинулись. Слушая, тянули шеи.
А с болот — шорохи, всплески, бурленье пузырей.
На небе — огненная россыпь звезд. Под деревьями — двойные, шатучие тени, словно парящие в темноте.
Собачьи голоса, плач детей, хриплый лай самодельной балалайки.
— Собачья музыка, — ухмыльнулся Никола. — Пущу-ка нормальную.
Он сходил в избу, принес свой патефончик, закрутил и поставил пластинку. Все молча следили за ним.
И вдруг ударила плясовая. Грянула с топаньем, с выкриками.
Шарахнулась, ударившись о завалинку, какая-то собака и покатилась, жалобно визжа.
Мужики качнулись.
Тут-то и раздался громовой голос со сторожевой вышки:
— Спасайтесь, последние христиане! Летит око антихристово! Прячьтесь, во имя господа бога!
Отовсюду забили колотушки — отзывалось эхо. Ночь рассыпалась с сухим деревянным треском. Люди бежали тропинками. Испуганные собаки катились черными шарами. Громко хлопали двери, гасли огни. Плакали дети.
Никола остановил патефон.
Легла тишь.
В черноте неба сквозь звездную кашу летел, мерцая теплым блеском, спутник, тянул заранее высчитанную космическую орбиту.
— М-да, — вздохнул Никола. — Так-то вот... Гиблое наше с тобой дело. Расскажешь в городе — не поверят.
Спутник, звезда человечья, скрылся за деревьями. Мы ушли в избу. Забрались на полати. В раскрытую дверь лез холод и водянисто-зеленый, болотного оттенка свет.
...Ночь шла своим обычным шагом. В дверь ползли гнилые запахи мшавы. Вошла собака и обнюхала рюкзаки. Ушла. Пришла другая и постояла, предупреждающе рыча, — только, мол, тронь! Потом явились сразу четыре щенка и стали в дверях. Я почмокал — они, приседая, завиляли хвостиками.
— О чем ты сейчас думаешь? — спросил Никола.
— А ты? — вильнул я.
— Девчата хороши. Круглые, маленькие, крепкие. Милые такие. — Повторил: — Милые, — шевельнулся, всхрапнул и заснул разом, словно нырнул.
А я всю ночь пролежал без сна. Все ворочался.
В предутренней глухой мгле послышались чьи-то мокрые шаги. Приблизились. Остановились. В дверь просунулся кто-то смутно-серый, зыблющийся, вроде привиденья, и беззвучно прошел в избу. Я окоченел. Приползла болотная мысль — а не покойник ли это с уютного кладбища? Стало стыдно. Присматриваясь, обнаружил, что это вполне живой старичок.
— Чего тебе, дедушка? — спросил я сиплым от страха голосом.
— Нашел себе дедушку, — ворчливо сказал ночной призрак. — Купилы есть?
— Купилы?..
— Ну деньги по-вашему, по-мирскому.
— Деньги? Есть, есть.
— Плати, — сказал ночной любитель денег. — За постой. Мне. Изба моя, харч тоже мой.
Я нашарил в кармане и отдал пятерку, все, что случайно было с собой. Шли, казалось, в места безлюдные. Старичок торопливо сунул в карман мою пятерку. Забормотал:
— Спаси вас бог... Вот и припен.
Он стоял среди избы, дышал коровьим запахом, ароматом только что выдоенного молока и топтался на месте, как стреноженный конь. Должно быть, чувствовал — нужно уходить, но любопытство держало.
— Чего вы так дико живете? И народ какой-то странный? — спросил я.
— Бог их — чрево, — загадочно ответил старик.
— Что, есть любят?
— Это ты Гришку поспрашивай, — сказал он с непонятной ехидностью. — Тот на все ответ даст. И скажет тебе Гришка — святой старец: три жребия человеку от господа бога даны. Самый-де высокий — Симов жребий, богу служити. Второй жребий — Иафетов — власть имети. Третий жребий Хамов — в страхе жити.
— Ну, а вы кто? Каков ваш жребий?
— Иафетов, — отвечал старик. — Я — староста.
Рявкнула выпь. Старик вздрогнул и сплюнул.
— Носит ее тут, — забормотал он. — Глядеть не на чо, а как пустит звук, прямо с ног валишься. И чо к нам прилепилась? С крапивного заговенья шатается, пужает. Хоть бы ее собаки заели, чо ли.
— Да, в природе живете, сказал я. — Болота, лес...
— Вот она где у меня, твоя природа. — Староста крепко постукал себя по шее. — Все квелые, всех лихоманка треплет... Кладбище больше поселка!.. Робята болеют, мрут, да и рождаются все больше девки. У меня вот их три дуры, а за кого выдашь? Тот свой, энтот женат, а у третьего ребра просвечивают. Ходит и все — кхе-кхе-кхе... Харкает. Вот и приходится у нас на одного мужика одна с тремя четвертями баба... Вот он где, бес-то смрадный. Так и живем здесь, сидючи, как лягушки, на болотной кочке. А зачем? 0-ох, Гришка, Гришка.
— Ну, а Симов жребий кто несет? — спросил Никола. — Богу служити? А?
— Молчи, шалопутный! Вот еще что он скажет вам. Гришка несет, вот кто. Наш уставник. Ухожу, помилуй мя, боже. Согрешишь тут с вами.
Старик ушел.
Наступило утро. Болота дышали холодным туманом. Он был плотен и почему-то пах паровозным дымом. В груди было тяжело. Кажется, на ней кто-то сидит, незримый, страшный.
Как они тут живут?
Я встал, сошел к дымящейся воде, умылся и почистил зубы. Деревня просыпалась. Мычали коровы, плыли дымы. Несколько мужчин возились в кустах у лодок. На черной воде дрожали тени деревьев.
К нашей избе, осторожно ступая босыми ногами, шла женщина в выгоревшем цветастом сарафане, в белом платочке. В руке — берестяной туесок, под мышкой объемистый сверток. Подошла, поклонилась низко и протянула мне то и другое.
Сказала:
— Папаня послал. Кушайте во славу божию.
Женщина была пугливой. Смотрела на меня исподлобья узкими глазами. Веки толстые, взбухшие, багровые — определенно, у бедняжки — трахома. А так всем взяла — лицом, фигурой, толстой, в кулак, косой... Эх, в поликлинику бы ее!
Вышел Никола, затягивая брючный ремень, взял у меня сверток и туесок и унес в дом.
— Садись, красавица, с нами, — сказал оттуда и громко начал жевать.
— Право, идемте, — позвал я.
— Чаво очи лупишь, коза? — сказал ночным, знакомым голосом низкий, коренастый, крепенький старик в чистой рубашке, с аккуратненькой розовато-глянцевой лысинкой. Борода торчит вперед. Должно быть, и челюсть тоже. Лоб в морщинках, глаза с прищуром. Так вот он какой, староста.
Он вошел и сел. Заговорил о том, о сем — должно быть, большой любитель поговорить. Но говорил он ясно и неясно, хитро плел речи, словно кнутик в три веревочки. Слушаешь — одно понимаешь, вслушиваешься и поразмыслишь — совсем другое, а под ним и еще разное. Чудно!