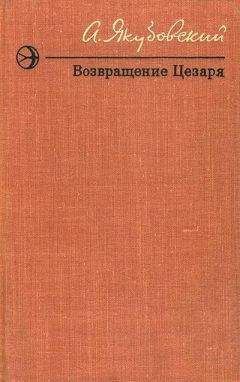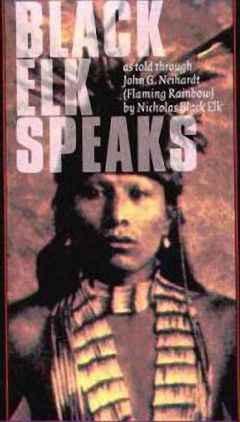Он вошел и сел. Заговорил о том, о сем — должно быть, большой любитель поговорить. Но говорил он ясно и неясно, хитро плел речи, словно кнутик в три веревочки. Слушаешь — одно понимаешь, вслушиваешься и поразмыслишь — совсем другое, а под ним и еще разное. Чудно!
Старик косился больше на Николу. Наблюдал, как ест, как курит. Когда дым пополз по избе, он помахал у носа рукой — и больше ничего. Осведомился: женаты ли? Потом встал и позвал с собой. Мы было взяли ружья, но староста испуганно замахал короткопалыми руками. Делать нечего, оставили, хотя Никола и встревожился.
— Слушай, я за карабин расписывался.
Я пожал плечами. Мы пошли тропками, переходили болотца и тихо сочащиеся ручейки по бревнышкам, прошли мимо погромыхивающей кузницы и, наконец, оказались в другом конце этого лежащего среди мшавы островка.
Лес здесь был рослый, солнце прорывалось между стволов и ложилось резкими пятнами на влажный мох. Крепко пахло грибами и плесенью.
У вывернутой бурей сосны — избушка, по самую крышу влезшая в землю. На крыше — мох, квелая травка. Над дверями — облепившийся ярью-медянкой — крест осьмиконечный.
Вокруг — люди, десятка полтора. Старухи да старики в выгоревшей, изношенной одежде.
А какие зловещие лица — мертвенно-бледные, недвижные, в темных пятнах дегтя — от комаров и гнуса. Показалось — тленьем пахнет, костяной старой гнилью.
А какой у них был ревматизм! Суставы их скрипели, хрустели и чуть ли не скрежетали. Когда они переминались с ноги на ногу, то казалось, кто-то потихоньку жует капусту. Я даже всмотрелся — нет, не жуют.
Нас староста приткнул поодаль, под сосной, и я оперся о ее замшелый ствол. Затем староста поспешно спустился в избушку. Послышался негромкий его голос, размеренный и невнятный.
Дверь заскрипела деревянным, пронзительным скрипом, распахиваясь до отказа. За ней, в глухой избяной темноте, шевелилось что-то белое. Оно двинулось вперед, словно всплывая.
Держа под руки, как стеклянного, двое верзил вывели ослепительно-белого старика: в седых кудрях и бороде, в длинной белой рубахе, в белых кальсонах. На груди — крест осьмиконечный.
Старухи качнулись к нему с восторженным стоном. И было отчего: я никогда не видел такой бороды. Она была просто великолепна — длинна, широка, серебриста. Да, такая борода может внушить не только почтенье, но и трепет!
— Фиал! Адамант веры! — глухо выкрикивали старухи.
А над роскошной бородой — строгие, пронзающие глаза, широкие, светлые, с черными точками зрачков. Щеки глубоко запали, на лице — никаких следов дегтя. На висках шевелились, пульсировали синие жилы. Но в общем старец был еще крепок.
Никола ковырял мой бок локтем.
— Слышь?.. Ну, слышь?
— Да чего тебе?
— Киноаппаратик бы сюда, карманный. Вернусь — обязательно куплю.
— Святой отче, прости нас грешных, святой отче, благослови, — бормотали тем временем старухи.
— Святой отче, прости, святой отче, благослови, — басили, кланяясь, старики.
— Бог простит, бог благословит, — ответил белый старец и присел со смирением на подставленный сутуночек. Подошел староста, поклонился низко, откашлялся, вытер губы рукавом и спросил:
— Святой отче, разреши мое недоумение. Пришли чужане. Чо делать?
— И сказал господь: «Грядущего ко мне не изжену», — изрек старец. Спросил: — А откуда пришли чужане?
— С мокрого угла. А вечор матка[1] дурила. Стрелку вертела не на сивер, а во все стороны указуя, — разъяснил староста.
— Во-во, прытко дурила. Сполохи не играли, а она дурила, — забормотали старики.
— И радуга плясала, веселилась.
— И на душе было смутно, а косточки ломило.
— Матка? — Старец опустил голову, надолго задумался. И вдруг вскинул глаза, поглядел на нас сокрушительным взглядом. Я до этой секунды не думал, что взгляд человека может быть так вещественен, ощутим. Он словно мазнул нас горячим клеем.
А белый старец сверкнул глазами на старосту и погрозил ему бледным длинным пальцем.
— Матка дурит, то непостижимо божья сила проявляется. Божья! А ты сам решаешь, соединяешь несоединимое, своевольничаешь. От гордости это, от гордости. Ох, Мишка, не заносись гордостью. Сатана загордился, а куда свалился? Фараон, царь египетский, в море потоп. О-ох, Мишка, не занимайся суемудрием. Помни — киченье губит, смиренье пользует. Смиренье есть богу угожденье. Знаю — о себе печешься, купилы собираешь. Опомнись, отринь! Мы — странники божьи, ни града, ни веси не имам. А «свое» — это от дьявола, от него, смрадного... О-ох, люди, люди, слабы вы стали. Клонитесь, как осока ветру, как лоза буре. Где поборники? Где подвижники? Нет их. Меня господь призовет, кто заместо станет? О-ох, горькие времена, горькие.
Он потупился, сокрушаясь.
— Ox-ох-ох, — застонали, закачались старухи. — Ох-о-оо-хо... горькие времена, горькие. О-ох-хо-хоох.
Мне опять казалось — сплю или свихнулся.
Но вокруг все было реально, плотно, естественно. Рядом — бледный Никола. Вокруг деревья, травы... Где-то кричит одинокий коростель — дерг, дерг, дерг... Среди сосен по-кошачьи орет иволга. И деревья как деревья, и мох как мох — шершавый, если пощупать.
А у избушки — белый старец. Стонущие, скрипящие старухи, старики.
— Чужане пусть живут, пусть. Если пришли, согрешив, — отмолят. Молоды — переделаются.
Старец оглядел нас дальнозоркими глазами. Задержал взгляд на Николе и подобрел, просветлел лицом, коснулся усов пальцами обеих рук. Распорядился:
— Оженить их. Парни здоровые. И господь сказал: «Плодитесь и множитесь»… Свежая кровь... Тому, чернявому (это Николе), выбрать самую красивую. Хоть бы Катерину, дщерь Кузнецову. А рыженькому — Феньку-вдовицу. Он тих, а Фенька — прыткая баба. Пусть детей заводят, ибо сказано: «Без детей — горе».
— Истинно, истинно. Горе, горе, горе... — закивали старики.
— Да, — говорил он. — Не забывайте о деточках. Нам — умирать. «Яко сень проходит живот наш, яко листвия падают дни человеческие».
Опять вокруг заохали, заскрипели суставами. Старец поманил нас перстом.
Мы прошли мимо стариков, грязных, немытых, пропахших дегтем насквозь, как старые сапоги.
Стали у избы.
Вблизи старец выглядел костяным. Черты недвижны, жесты скупы и повелительны.
— С чем пришли? — спросил он.
Я постарался объяснить, впрочем, не надеясь, что старец поймет. Но он понял все и, стрельнув в старосту взглядом, сказал негромко:
— Ох, Мишка, Мишка, навлек беду. — И к нам: — Щепотники-никониане?
— Чего, чего? — взвился Никола.
— Аль обливанцы?
— Католики, — шепнул нам староста.
— Да нет же, мы неверующие.
Старец улыбнулся насмешливо и ласково, укоризненно покачал бородой.
— Да некрещеные мы совсем! Мы городские, учились, активисты. Я — комсомолец, он вот стенгазету оформляет, — разъяснил Никола.
— Язычники, значит? Аль немоляки? — спросил мослатый старик. — Какому богу поклоняетесь?
— Да мы их всех к черту повыкидывали! — крикнул Никола.
Старухи ахнули. Белый старец все улыбался и качал головой. Михаил подхватил нас обоих под руки и потащил. Сзади неслись хриплые выкрики:
— Слепотствуют!.. Темные люди!.. Благодать в вере!..
Поднялся сильный шум, что-то невнятное, вроде бы «вва-ва-ва»...
— Заварилось теперь, — ворчливо говорил староста. — Ну их всех к ляду! Согрешил я... Съест теперь меня Гришка за избу, с костями сожрет. Далась она мне, треклятая! Мыслил — выйдет старшая взамуж, вот и жило готово, а получилось... — И забормотал, сокрушаясь: — О-ох, почто делаешься главою, будучи ногою?
— Ну, знаете, — сказал я. — Дожили вы тут. Вот что, проводите-ка нас, папаша, в кузницу, а то еще запутаешься в ваших тропинках.
— К кузнецу? Ладно. Он, кузнец, ушлый мужик, обкатанный.
— А вы свяжите старца, — посоветовал Никола.
— Рать-то его видел? То-то же. И знаешь, малый, не суйся, разговор наш.
Никола обиделся и пошел вперед. Староста торопливо, до неловкости услужливо, шагал сбоку тропы по мхам и травкам. Поучал вполголоса, кивая на спину Николая:
— Началь его. У них так, у хамов то есть, — распустят языки и брешут... Ты лобаст, может, высоко скакнешь, так помни: страшен медведь, страшна толпа, еще страшнее голимая правда. Ты прикрывай, темни, темни. Да жми на них. Пусть пищат. Хамы-то. И сули все — пусть ждут, таков их жребий... Ну, вот этой тропкой и стеганите, а там через ручеек кладочка и кузня. Сама о себе скажет. О-ох, сокрушение... Да, слышь, Яшка здесь...
Староста быстро пошел обратно, словно покатился с горки.
Я остановился, как будто налетев на что-то невидимое и твердое. Так вот он каков, Яшка-весельчак. Вот еще какие люди бывают. Но зачем он так сделал?
— Ты чего это? — спросил Николай.
— Яшка здесь.
— Откуда узнал?
— От старосты, сейчас вот.
— Чего ему здесь надо?
— А я знаю?
— Ну и набью же я морду Яшке, — мечтательно сказал Никола. — И еще как набью! Сопатку поверну ноздрями вверх. Пусть, гадюка, ходит в дождь под зонтиком.