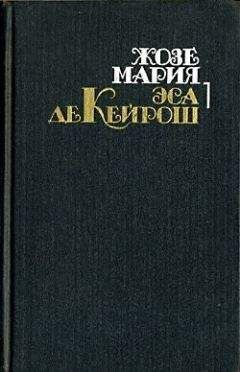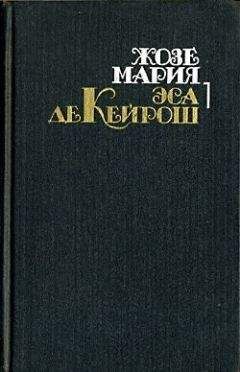Мало кто, подобно несчастному Корнусскому, страдает от разлада между собственным и общим мнением. Все грешат тем же раболепием мысли, но с легким сердцем – потому ли, что ум наш не одарен той смелостью, какая нужна, чтобы оспаривать освященные традицией авторитеты, ибо их суждение признается безошибочным, а познания исчерпывающими; потому ли, что общепринятые воззрения, смутно брезжущие в нашей памяти после давно прочитанных книг и когда-то слышанных разговоров, начинают казаться нам нашими собственными мыслями; потому ли, наконец, что эти общие суждения постепенно и незаметно приучают нас мыслить в согласии с ними, – но так или иначе, приходится признать печальную истину: в наше время все склонны думать и чувствовать так, как до нас и вокруг нас думали и чувствовали другие. «Человек XIX века, то есть европеец (ибо, по существу, только европеец является человеком XIX века), – говорит Фрадике в письме к Карлосу Майеру, – дышит мутным и несвежим воздухом, зараженным миазмами банальности. Зараза эта исходит от сорока тысяч томов, которые Англия, Франция и Германия, потея и кряхтя, ежегодно раскладывают на всех перекрестках. В этих сорока тысячах томов бесконечно и нудно повторяются, иногда с небольшими прикрасами, три-четыре мысли и три-четыре наблюдения, унаследованные нами от античности и Возрождения. Государство распространяет инфекцию банальности по каналам своих учебных заведений, и это, о Каролус, называется «давать образование»! Ребенок, едва разбирающий по складам свою первую «Книгу для чтения», уже впитывает в себя отложения общих мест; и в дальнейшем, день за днем, он всю жизнь поглощает сию пищу; газеты, журналы, брошюры, книги пичкают его общепринятыми мыслями, пока весь его ум не пропитается клейкой жижей банальности и не станет столь же бесплодным, как чернозем, варварски утрамбованный песком и щебнем. Чтобы добыть из своего мозга хотя бы одну свежую, сильную идею, нынешний европеец должен предварительно удалиться в пустыню или пампасы и там терпеливо ждать, пока живой ветер природы, хорошенько продув его голову, очистит ее от мусора, накопившегося за двадцать веков истории литературы, и вернет его мозгу утраченную девственность. Поэтому я утверждаю, о Каролус Майерензис, что, если европейский ум гордо пожелает вернуть себе божественную способность творить, он должен года на два отправиться на излечение от книжной цивилизации к готтентотам или патагонцам. Патагония действует на мозг точно так, как вишийская минеральная на печень: очищает от вредных отложений и восстанавливает естественное функционирование. После двух лет дикарского житья среди готтентотов, повинующихся лишь логике инстинкта, что останется у цивилизованного европейца от понятий о Прогрессе, Морали, Религии, Индустрии, Политической экономии, Обществе и Искусстве? Одни лохмотья – точно так же, как через полтора года жизни среди болот и чащ на нем останутся лишь лохмотья брюк и пиджака, вывезенных из Европы. Не имея к своим услугам книг и журналов, чтобы возобновить запас готовых идей, равно как и спасительного портного Нунеса, чтобы купить новый комплект готового платья, европеец вскоре обретет свое благородное первобытное состояние: телесную наготу и умственную оригинальность. Когда он вернется в Европу, перед нами предстанет могучий и беспорочный Адам, девственный в литературном отношении. Череп его будет очищен от всех понятий и сведений, нагромоздившихся там со времен Аристотеля, и он сможет бесстрашно приступить к самостоятельному рассмотрению дел человеческих. О Карлос, о ум, источающий остроумие, хочешь вернуться к Истокам и поехать со мной во вдохновительную Готтентотию? Там, свободные и голые, мы воткнем в землю наши мощные копья, раскинемся на солнечном припеке между пальмой и ручейком, которые будут питать наше тело, и станем слушать голоса женщин, чьи песни прольют нам в душу ту толику поэзии и мечты, без которых она не может жить… И тогда, держась за почерневшие от загара бока, мы будем с тобой кататься от смеха, вспоминая о великих философских системах, о великих нравственных учениях, о великих экономических преобразованиях, о великих искусствоведческих теориях и о великих надувательствах, свивших гнездо в нашей Европе, где толкутся, как в муравейнике, шапокляки, одуревшие от суеверий цивилизации, жажды золота, педантизма науки, обмана переворотов, всесилия рутины и глупого самолюбования!..»
Так говорил Фрадике. Но «самостоятельное рассмотрение дел человеческих», посильное (как он утверждал) лишь обновленному Адаму, побывавшему в Патагонии и очистившему свой ум от долголетней пыли и мусора литературной истории, сам он предпринял с небывалой энергией и увлечением, не покидая почтенных камней улицы Варенн. А для этого требовалось истинное бесстрашие. В светском обществе, с которым Фрадике Мендеса связывали и вкусы и привычки, – в обществе, где все регламентировано, откуда изгнаны воображение и инициатива, где нет места никакому своеобразию, а мысли (если они хотят нравиться) должны, как и манеры, быть общепринятыми, – в этом обществе Фрадике с его непокорной и неожиданной свободой суждений мог легко прослыть любителем оригинальничания, падким на дешевую славу фатом, желающим, чтобы его заметили. Человек с самобытным и свежим умом, одаренный способностью мыслить оригинально и не скрывающий бурного, неудержимого кипения своей мысли, – такой человек еще более неприемлем для общества, чем неотесанный мужлан, чья неприглаженная шевелюра, громкий хохот и чрезмерная жестикуляция не согласуются с общепринятыми правилами поведения. О человеке с таким своеобразным, непричесанным образом мыслей сразу начнут неодобрительно шептать: «Он оригинальничает! Какие претензии!» А между тем Фрадике ничего так не презирал, как оригинальничание и претенциозность. Он не носил никаких галстуков, кроме темных. Он никогда не оказался бы в числе тех, кто, не питая ненависти к Диане, идет с пылающим факелом поджигать ее храм в Эфесе[87] – для того лишь, чтобы вслед ему перешептывались на площадях перепуганные жители. Фрадике Мендес ни за что не согласился бы – так пишет он в одном письме к госпоже де Жуар – «одеть Истину в туалет из модного магазина ради права ввести ее в салон Анны де Варль, герцогини де Варль д'Оржемон. Если я появлюсь в ее особняке, то моя спутница войдет туда со мной нагая, совершенно нагая, и будет ступать по коврам босыми ногами, не пряча от глаз собравшихся гостей свои благородные голые сосцы. Amicus Mundus, sed magis arnica Veritas.[88] Это прекрасное латинское изречение означает, дорогая крестная, что, по моим наблюдениям, правда мила женщинам и противна мужчинам, за что я люблю ее еще сильней и преданней».
Независимость духа, широта интересов и предельная честность мешали моему другу увлечься всецело чем-нибудь одним и на этом одном остановиться; зато качества эти отлично подходили для той особой умственной работы, которую Фрадике предпочитал всякой другой. В 1882 году он писал Оливейре Мартинсу: «К сожалению, я не гожусь ни в ученые, ни в философы. Я не принадлежу к числу добросовестных, полезных людей, по темпераменту своему предназначенных для низшей аналитической работы, которая носит название науки и сводит разрозненные факты к классам и закономерностям, объясняющим отдельные формы существования вселенной; не принадлежу я и к числу людей не столь положительных, но гениальных, по своей одаренности предназначенных для высшей аналитической работы, которая носит название философии и сводит отдельные классы и закономерности к общим формулам, объясняющим самую сущность вселенной. Итак, не будучи ни ученым, ни философом, я не могу содействовать благу себе подобных: не могу улучшить их благосостояние силой науки, производительницы богатств, и не могу возвысить их духовно силой философии, вдохновительницы поэзии. Доступ в историю также для меня закрыт – ибо если литератору достаточно обладать талантом, то историк обязан обладать добродетелью. А я!.. Следовательно, я могу быть лишь просто человеком, который с величайшим интересом и вниманием присматривается к фактам и впитывает идеи, следуя своей дорогой. В настоящее время, милый мой историк, лучшее эгоистическое наслаждение моего ума состоит в том, что я подступаю к какой-нибудь идее или какому-нибудь факту, проскальзываю в самую сердцевину, тщательно осматриваю, исследую то, что не исследовано, радуюсь неожиданностям и интеллектуальным эмоциям, которые эти идеи и факты могут дать, извлекаю тот урок или ту частицу истины, которая таится в них, а затем выбираюсь наружу и хладнокровно, спокойно и без спешки приступаю к другому факту или другой идее; и чувствую себя так, словно посещаю, один за другим, города какой-нибудь страны, где процветают искусства и царит роскошь. Так я когда-то путешествовал по Италии, очарованный блеском красок и форм. По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист».