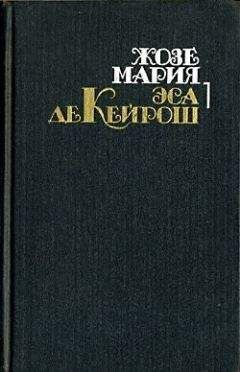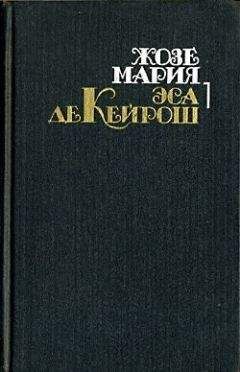На чем зиждилась духовная власть, духовное значение Палестины? На том, что в течение четырех тысяч лет она оставалась библейской и евангельской землей… Без сомнения, в этой стране произошло много изменений: турецкое владычество не так блистательно, как римское; на месте садов и виноградников вокруг Иерусалима остались лишь камни да крапива; обветшалые города потеряли Свой героический облик военных твердынь; вино почти не изготовляется; всякое знание заглохло. И я не сомневаюсь, что даже в Сионе, на террасе у левантийского купца, можно услышать, как насвистывают вальс из «Мадам Анго»[183]… Но внутренняя жизнь людей (оседлых ли земледельцев и горожан или кочевников), их нравы, обычаи, обряды, одежда, посуда – все осталось таким, каким было во времена Авраама и Иисуса. Попасть сейчас в Палестину – все равно, что проникнуть в живую Библию. В тени сикоморы – палатки из козьих шкур; пастух стоит, окруженный своим стадом, опершись на копье; женщины в желтых и белых покрывалах, с кувшином на плече, поют песню, спускаясь к колодцу; горец целится из пращи в орла; у ворот города сидят по вечерам старцы; светлые террасы усеяны голубями; писец проходит с чернильницей на поясе; служанки мелют зерна; человек с длинными волосами назорея[184] приветствует вас словом «мир» и изъясняется притчами; хозяйка дома, принимая вас, постилает коврик у порога своего жилища; и брачные процессии, и медленные танцы под рокот бубнов, и плакальщицы у белых гробниц – все переносит странника в Иудею времен Писания так жизненно и реально, что на каждом шагу спрашиваешь себя: не Рахиль ли вон та тоненькая смуглая женщина с золотыми кольцами в ушах, что проходит мимо, источая аромат сандала, и козленок идет за ней, ухватившись зубами за край ее плаща? И не Иисус ли тот человек с короткой курчавой бородой, который говорит что-то, подняв руку, в группе собравшихся под смоковницей мужчин?
Это ощущение, драгоценное для верующего, ценно и для мыслителя, ибо ставит его в осязательное общение с одним из самых чудесных моментов истории человечества. Конечно, было бы так же важно (может быть, еще важнее) пережить подобное волнение в Греции и найти в ее одеждах, обычаях и общественной жизни великие Афины эпохи Перикла. К несчастью, несравненные Афины умерли безвозвратно, навеки погребены под землей, обратились в прах под Афинами римскими, и Афинами византийскими, и Афинами варварскими, и Афинами мусульманскими, и грязными конституционными Афинами. Повсюду древние декорации истории изодраны в клочья, сровнены с землей. Кажется, что даже горы потеряли свои классические контуры, и невозможно найти в Лациуме ту реку в прохладной долине, где жил Вергилий и которую он так по-вергилиевски воспел. На всей земле лишь одно-единственное место сохранило тот облик и те обычаи, с какими его видели и знали люди, совершившие один из самых великих мировых переворотов: это место – Иудея, Самария и Галилея. И если оно будет грубо модернизировано, подведено под общий ранжир, любезный нашему веку и представляющий собою копию Ливерпуля или Марселя, и если навсегда исчезнет поучительная возможность видеть великий образ прошлого, – какая это будет профанация, какое грубое и варварское опустошение! Потеряв реликт древних цивилизаций, сокровищница нашего знания и вдохновения невозместимо оскудеет.
Конечно, милый Бертран, никто не ценит и не уважает железную дорогу больше, чем я; мне было бы весьма затруднительно совершить путешествие из Парижа в Бордо, сидя с растопыренными ногами на осле, подобно Иисусу, въезжавшему из Иерихонской долины в Иерусалим. Однако самые полезные предметы неуместны и даже неприличны, когда грубо вторгаются в чуждые им области. Нет ничего полезнее ресторана; и все-таки даже самый отъявленный атеист не пожелал бы разместить ресторан, с его столиками, звоном тарелок и запахом жареного, в соборе Парижской богоматери или в древнем соборе Коимбры. Железная дорога – вещь весьма похвальная между Парижем и Бордо. Но между Иерихоном и Иерусалимом лучше ехать на резвой лошадке, нанятой за две драхмы, и ночевать не в отеле, а в брезентовой палатке, которую можно поставить вечером среди пальм на берегу прозрачного ручья, где так сладко спится под мирными сирийскими звездами.
Шатер у ручья, задумчивый верблюд, груженный тюками, пестрый отряд бедуинов, пустыня, по которой скачешь с ощущением беспредельной свободы, лилия Соломона, сорванная в расселине священных камней, тенистый приют у библейского колодца и память о далеком прошлом земли – именно они придают столько очарования этой дороге и так сильно влекут человека со вкусом, способного к тонкому эмоциональному восприятию природы, истории и искусства. Когда же из Иерусалима проведут в Галилею железнодорожную колею, с ее гремящими, грязными вагонами, никто уже не захочет путешествовать по этим местам – кроме, может быть, расторопного коммивояжера, которому нужно распродать на базарах манчестерские ситцы и красные суданские сукна. Твой черный поезд поедет без пассажиров. И это будет большая радость для всех культурных людей, кроме акционеров Общества палестинских железных дорог!..
Но успокойся, милый Бертран, инженер-путеец и держатель акций! Даже самые верные слуги Идеала не в силах устоять против материалистических соблазнов прогресса. Если человеку XIX века предложат на выбор для следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону, с одной стороны, караван самой царицы Савской, полный поэзии и овеянный легендой: вереницу слонов и диких ослов с грузом благовоний и драгоценных каменьев, в сопровождении знаменосцев, лирников и глашатаев в венках из анемонов; а с другой стороны – свистящий поезд с открытыми дверцами, в котором можно проделать тот же путь без тряски и солнечных ударов, со скоростью двадцать километров в час и с билетом туда и обратно, то человек XIX века, будь он самым утонченным интеллектуалом и самым эрудированным эстетом, схватит свою шляпную картонку и со всех ног побежит в вагон, где можно разуться и спать врастяжку.
Поэтому твое черное дело процветет благодаря самой своей черноте. Через несколько лет деловой европеец, выехав утром из древней Иеппо в вагоне первого класса, сможет купить на станции Раза «Либеральную синайскую газету», с аппетитом позавтракать в Рамле в гранд-отеле Маккавеев, а вечером в Иерусалиме пройтись по Скорбному Пути, освещенному электричеством, выпить кружку пива и сыграть партию на бильярде в казино Гроба гооподня!
Это будет дело твоих рук и конец христианской легенды.
Прощай, чудовище!
Фрадике.Госпоже де Жуар.
Ферма Рефалдес (Миньо).
Дорогая крестная!
Я живу в полном довольстве среди церковных угодий, потому что эта усадьба некогда принадлежала монастырской братии. А теперь ею владеет один из моих друзей. Поэт и земледелец, как Вергилий, он обрабатывает землю и пасет стада и с благоговением воспевает героическое прошлое Португалии. Крепкий, цветущий, загорелый, он со своими восемью детьми населяет монашеские кельи, обитые светлым кретоном. Я вернулся из Лиссабона сюда, на север, к маисовым полям, чтобы крестить его младшего сына: это пресимпатичный маленький сеньор в три вершка ростом, кирпичного цвета, весь в складочках и выпуклостях, настоящий кренделек, с лысой головой в. виде дыни, с блестящими, как стеклышки, глазками на морщинистом личике и со старческим выражением глубокого скептицизма. В субботу, в день святого Бернарда, под ослепительной небесной лазурью, которую святой Бернард специально ради этого случая подновил и прогрел, среди аромата роз и жасминов, мы понесли его, под звон колоколов, всего в бантах и кружевах, к купели, где отец Теотоний смыл с него коросту первородного греха, которая уже покрывала все его тельце, от пухлых пяток до голого темени! Бедный трехвершковый сеньор, чья душа погибла, не успев пожить!.. И с тех пор Рефалдес стал для меня островом лотофагов,[185] а я словно поел лотоса вместо цветной капусты – и вот остался здесь, позабыв мир и себя самого; и дышу воздухом этих чудесных лугов, и наслаждаюсь сельской тишиной, которая нежит и баюкает меня.
Монастырский дом, где мы живем и куда раньше приезжали на лето каноники ордена святого Августина, жирные и богатые святые отцы, расположен по соседству с простой, незатейливой церковкой. Шпалеры гортензий ведут в осененный каштанами церковный двор – задумчивый и серьезный, как повсюду в Миньо. Каменный крест над воротами, в проеме которых все еще висит на цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Перед домом – фонтан с питьевой водой: струя ее сонно поет, падая с раковины на раковину. Над фонтаном – другой каменный крест, поросший желтоватым мхом. Немного дальше – просторный бассейн, искусственное озеро окруженное каменными скамьями; по всей вероятности, здесь святые отцы наслаждались вечерней прохладой и тишиной. В этом бассейне берут воду для поливки сада: обильная, чистая струя бьет из-под каменной статуи в нише, – фигуры святой Риты. В огороде стоит еще одна тощая святая: держа в руках разбитый сосуд, она, подобно наяде, охраняет третий источник, который с журчаньем катит свои чистые струи по каменным желобам через бобовое поле. На гранитных столбах, служащих подпорками для винограда, вырезаны рельефы: то крест, то сердце Иисусово, то его монограмма. Таким образом, вся эта усадьба, испещренная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей служат виноградные лозы, пол порос травой, из каждой щели бьет источник воды, и аромат гвоздики курится вместо ладана.