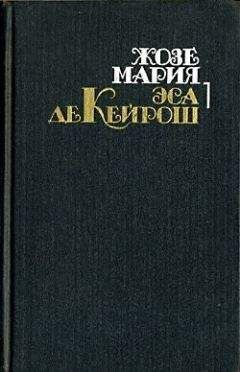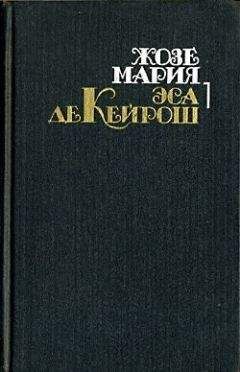Deus nobis haec otia fecit in umbra Lusitaniae pulcherrimae.[186]
Латынь дурная, зато мысль верная.
Ваш дурной, но верный
Фрадике.Кларе…
(С франц.)
Париж, ноябрь.
Моя любовь!
Всего несколько мгновений тому назад (десять мигов, десять минут – столько ушло на дорогу в гадком фиакре, который увез меня из нашей Башни слоновой кости) я еще чувствовал биение твоего сердца около моего сердца; их разделяло только немного смертной материи, такой прекрасной в тебе, такой грубой во мне, и вот я уже в тоске стремлюсь продлить с помощью безжизненной бумаги то невыразимое, что заключается в словах «быть с тобой» и в чем теперь вся цель моей жизни моя действительная, высшая жизнь. Вдали от тебя я перестаю жить, все перестает жить, и я, как мертвец, лежу среди мертвого мира. Едва кончается для меня этот совершенный краткий миг жизни, которым ты даришь меня, садясь рядом и шепча мое имя, и я снова начинаю тосковать по тебе, как по воскрешенью из мертвых.
Прежде чем я полюбил тебя, прежде чем я получил из рук богов мою Еву – чем, в сущности, я был? Тенью, колеблемой среди теней. Но ты пришла, любимая, чтобы я ощутил свое бытие и мог с ликованием крикнуть: «Люблю – значит существую!» Ты открыла мне не только мою собственную сущность, но и сущность всей вселенной, которая раньше была для меня непонятным, серым нагромождением видимостей. Помнишь, несколько дней тому назад, с наступлением сумерек на террасе в Севране, ты сердилась: как мог я вблизи твоих глаз любоваться звездами и вблизи твоих теплых плеч смотреть на засыпающие холмы; ты не знала, и я не сумел тогда объяснить тебе, что это созерцание – лишь новый способ поклоняться тебе; поистине, во всем окружающем я вижу новую красоту, которую одна ты умеешь разливать на все, что тебя окружает; прежде чем я стал жить подле тебя, я никогда ее не замечал, как незаметен алый цвет розы и нежная зелень травы, пока не взойдет солнце. Это ты, любимая, осветила мне мир. Через твою любовь я воспринял таинство. Теперь я понял, теперь я знаю. И, как древний в миг посвящения, могу сказать: «И я был в Элевзисе; на долгом пути я возложил много цветов, но ненастоящих, на многие алтари, но ложные. Но вот я пришел в Элевзис, проник в Элевзис – и узрел, и почувствовал истину!..»
Мое мучение и мой восторг усугубляются тем, что твоя красота так восхитительна и так воздушна: она создана из неба и земли, это красота совершенная, тебе одной присущая. Я носил ее в себе как мечту и не верил, что встречу в жизни. Сколько раз я думал перед всегда удивительной и всегда безупречной Венерой Милосской: если бы в голове этой богини могли тесниться земные заботы; если бы ее гордые, бессловесные глаза могли затуманиться слезами; если бы ее уста, созданные для меда и лобзаний, дрогнули, смиренно шепча мольбу; если бы в этой груди, высочайшем вожделении богов и героев, когда-нибудь затрепетала любовь и с нею благость; если бы этот мрамор умел страдать – страдание одухотворило бы ого; к великолепию гармонии прибавилось бы хрупкое изящество; и если бы она жила в наше время, чувствовала бы наши горести и, оставаясь богиней наслаждения, сделалась бы владычицей страдания – тогда она стояла бы не в музее, но в святилище, потому что люди, видя в ней страстно-желанное, но невозможное соединение действительности и идеала, провозгласили бы ее in aeternam[187] конечным божеством. Но увы! Бедная Венера являет только холодное телесное совершенство. Ей не хватает внутреннего пламени, пылающего в душе. А несравненное создание моей мечты – Венера с душой, скорбящая Кифарея – ее нет, не было и никогда не будет! Так думал я, но вот ты явилась, и я узнал тебя. Ты – воплощение моей мечты, мечты всех людей. Но только один я тебя открыл, или, вернее, я был так счастлив, что одному мне ты пожелала открыться!
Суди же сама, выпущу ли я тебя когда-нибудь из своих объятий! Ты – мое божество, и это значит, что ты навсегда во власти моего поклонения. Карфагенские жрецы приковывали бронзовыми цепями к плитам храма статую Ваала. И я тоже хочу приковать тебя в храме, построенном для тебя жадным скупцом, чтобы ты была лишь моим божеством и всегда пребывала на алтаре, а я, повергшись ниц, буду постигать тебя душой и погружаться в твою сущность беспрестанно, чтобы даже на миг не прерывалось это невыразимое слияние. Для тебя это дело милосердия, для меня – спасение. Я бы желал, чтобы ты оставалась невидимой другим, не существовала бы для них, чтобы непроницаемый покров ограждал твое тело от посторонних взоров и строгая немота скрывала твой ум. И ты прошла бы в мире, как непонятое видение, и только для меня под темной одеждой сияло бы твое изумительное совершенство. Видишь, как я тебя люблю: мне бы хотелось, чтобы ты всегда носила грубое и бесформенное шерстяное одеяние, чтобы лицо твое было безжизненным и неподвижным… Тогда я лишился бы горделивой радости наблюдать, как блистает среди очарованной толпы та, что втайне любит меня. Все шептали бы с состраданием: «Бедняжка!» И только я один знал бы, как прекрасна эта «бедняжка» телом и душой!
А она прекрасна! Я не могу понять, как, сознавая собственную прелесть, ты не влюбилась в себя, подобно Нарциссу, прикрытому мхом и дрогнущему от холода на берегу ручья в Севране. Но я люблю тебя и за себя, и за тебя! Твоя красота, как добродетель, поистине возвышенна; чистая душа сделала такими прекрасными линии твоего тела. И я постоянно корю себя за то, что не умею любить тебя так, как ты заслуживаешь (ведь ты спустилась с вышнего неба), что не умею обходиться, как должно, с дивной обитательницей моего сердца. Иногда мне хочется окружить тебя неземным блаженством, бесконечным, нерушимым, какое должно быть в раю, – и чтобы мы. обнявшись, в один и тот же час расстались с жизнью и вместе летели бы в безмолвном, сияющем пространстве, и в ином мире продолжали бы тот же восторженный сон. А иной раз я бы желал сгореть вместе с тобой в бурном, огненном счастье, погибнуть в этом великолепном пламени, и чтобы от нас обоих осталась только горсть безымянного, забытого пепла! У меня есть старинная гравюра: сатана, во всем блеске своей архангельской красоты, увлекает к пропасти святую монахиню, чьи последние покаянные покрывала рвутся об острия черных скал. На лице у святой ужас; но сквозь ужас сияют, неукротимее и сильнее, чем ужас, радость и страсть. Для тебя я желал бы такой радости и страсти, о моя похищенная святая! Ни одним из этих двух способов я не умею тебя любить, слишком слабо и неумело мое сердце. Но если любовь моя несовершенна, я удовлетворюсь тем, что она вечна. Ты грустно улыбаешься при слове «вечность». Вчера ты спросила меня: «Сколько дней длится вечность по календарю твоего сердца?» Но не забывай, что я был мертв, а ты меня воскресила. Новая кровь в моих жилах, новый дух, новые чувства и новое понимание. Вот что такое моя любовь к тебе. Если она уйдет от меня, я снова окоченею, онемею, вернусь в мою гробницу. Я перестану любить тебя, когда перестану существовать. Жизнь с тобой и для тебя – невыразимо прекрасна! Так живут боги. Может быть, и боги этого не испытали; и если бы я был язычником, каким ты меня считаешь, языческим пастухом из Лациума, и верил бы в Юпитера и Аполлона, я бы каждое мгновение боялся, что кто-нибудь из этих завистливых богов похитит тебя и унесет на Олимп, чтобы сделать полным свое бессмертное блаженство. А теперь я не боюсь: я знаю, что ты моя, навсегда моя, и весь мир – это рай, созданный для нас, и я сплю спокойно на твоей груди, спокойно и блаженно, о моя трижды благословенная царица благодати!
Не подумай, что я сочиняю тебе хвалебный гимн. Я просто даю излиться тому, что кипит у меня в душе… Да что! Вся поэзия всех веков бессильна выразить мой восторг. Я лепечу, как могу, мою нескончаемую молитву… Человеческое слово прискорбно несовершенно. И вот, как деревенский неуч, я становлюсь перед тобой на колени и, воздев руки твержу единственную, самую верную истину: я люблю тебя, люблю, люблю и люблю!
Фрадике.Госпоже де Жуар.
(С франц.)
Лиссабон, июнь.
Дорогая крестная!
В меблированных комнатах на Соломенной улице, где томится на привязи у Истины мой кузен Прокопию, я познакомился после возвращения из Рефалдеса с одним священником, падре Салгейро. Вы, я знаю, любительница лукаво и кропотливо коллекционировать любопытные человеческие типы, и, может быть, сочтете этого падре занятным образчиком для вашей коллекции.
Мой рассеянный и хилый философ уверяет, пожимая плечами, что падре Салгейро не отличается ни телом, ни душой от всякого священника их епархии и что он, как добросовестно составленный перечень, соединяет в себе мысли, чувства, привычки и внешние черты всего португальского духовенства. Действительно, по внешнему виду падре Салгейро – ходячий тип португальского священника.
Родом он из крестьян; немного пообтесался в семинарии, усвоил приличные манеры в общении с местными начальниками и чиновниками из департамента духовных дел, понаторел в искусстве импонировать верующим дамам, особенно во время мессы и исповеди, а главное, приобрел некоторый столичный лоск в Лиссабоне, в семейных пансионах, зараженных литературой и политикой. Его выпуклая грудь дышит глубоко, как кузнечные мехи; руки у него до сих пор темные и жесткие, несмотря на то, что они уже столько лет прикасаются к белым, мягким облаткам. Кожа на лице точно дубленая, с синеватым отливом на щеках от тщательно выскобленной бороды; такая же синеватая тонзура среди черных, жестких, как лошадиная грива, волос; зубы ослепительной белизны. Все это черты, присущие крестьянскому сословию, из которого он вышел и которое ныне поставляет португальской церкви весь ее персонал, стремясь найти опору в союзе с единственной могущественной силой современного общества, которая ему понятна и не внушает недоверия.