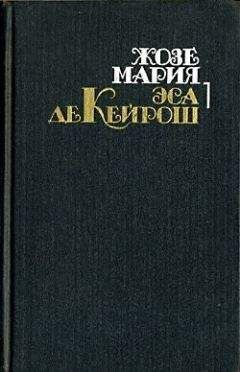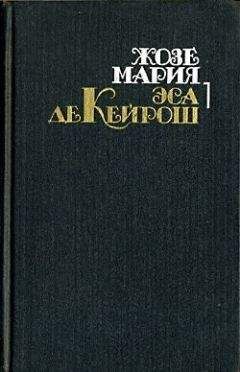Монастырский дом, где мы живем и куда раньше приезжали на лето каноники ордена святого Августина, жирные и богатые святые отцы, расположен по соседству с простой, незатейливой церковкой. Шпалеры гортензий ведут в осененный каштанами церковный двор – задумчивый и серьезный, как повсюду в Миньо. Каменный крест над воротами, в проеме которых все еще висит на цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Перед домом – фонтан с питьевой водой: струя ее сонно поет, падая с раковины на раковину. Над фонтаном – другой каменный крест, поросший желтоватым мхом. Немного дальше – просторный бассейн, искусственное озеро окруженное каменными скамьями; по всей вероятности, здесь святые отцы наслаждались вечерней прохладой и тишиной. В этом бассейне берут воду для поливки сада: обильная, чистая струя бьет из-под каменной статуи в нише, – фигуры святой Риты. В огороде стоит еще одна тощая святая: держа в руках разбитый сосуд, она, подобно наяде, охраняет третий источник, который с журчаньем катит свои чистые струи по каменным желобам через бобовое поле. На гранитных столбах, служащих подпорками для винограда, вырезаны рельефы: то крест, то сердце Иисусово, то его монограмма. Таким образом, вся эта усадьба, испещренная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей служат виноградные лозы, пол порос травой, из каждой щели бьет источник воды, и аромат гвоздики курится вместо ладана.
Но, несмотря на обилие благочестивых эмблем, ничто здесь не принуждает к отречению от мира. Ферма дает хорошие урожаи. Как и прежде, она окружена отлично обработанными и орошенными полями, которые греются на солнце, раскинувшись привольно, как античная нимфа. Добрейшие отцы, обитавшие здесь, любили и землю и жизнь. Все это были природные фидалго, которые вступали в воинство господне совершенно так же, как их старшие братья вступали в войско короля; и, точно как те, они наслаждались досугами, привилегиями и богатствами своего ордена и своей касты. Они переезжали в Рефалдес с наступлением июльской жары, в портшезах, со свитой лакеев. В кухню они заглядывали куда чаще, чем в церковь, и жирные каплуны ежедневно подрумянивались на вертелах для их ублажения. Слой пыли стыдливо покрывал библиотеку, куда редко-редко какой-нибудь каноник, прикованный к креслу ревматизмом, посылал за «Дон-Кихотом» или за «Фарсами доньи Петронильи». Ученые аббаты обметали пыль, проветривали, каталогизировали, надписывали этикетки – но только не в библиотеке, а в винном погребе!
Итак, не ищите в этой обители налета монастырской грусти; не ищите в ее окрестностях горных ущелий или долин, где царят безмолвие и уединение и так сладко тосковать по небу. Вы не увидите здесь лесных чащ, в какие уходил святой Бернард в поисках более полного, чем в келье, уединения; нет тут и поляны с голой скалой, где можно поставить хижину и каменный крест для отшельника… Нет! Вокруг усадьбы стоят добротные амбары для зерна; в курятниках едва вмещаются индюшки и каплуны. Чуть подальше цветущий огород, где все благоухает, все дышит изобилием – тут хватит, чем наполнить котлы целой деревни; в огороде этом нарядно, как в саду; уютные дорожки проложены вдоль душистых грядок земляники, под сенью виноградных трельяжей. За воротами – каменный ток, гладкий, чистый, поставленный на века, с хорошо сложенным и хорошо продуваемым овином; в нем так просторно, что воробьи летают внутри, как под открытым небом. И, наконец, на всей равнине, вплоть до далеких холмов, волнуются тучные нивы, поля проса и ячменя, темнеют низкие виноградники, радуют глаз оливковые рощи, посевы льна по краям оросительных каналов, сенокосы, зеленые выпасы для скота… Святой Франциск Ассизский и святой Бруно прокляли бы такой монастырь и бежали бы отсюда без оглядки, как от воплощенного греха!
Внутренность дома являет тот же мирской уют. Просторные кельи с расписными потолками выходят окнами на залитые солнцем поля, откуда в них вливается дыханье довольства, зажиточности, надежных земных благ. Лучшая комната, предназначенная для самого важного дела, – трапезная с широкими балконами, где монахи, сытно поев, могли, согласно традиции, смаковать после обеда кофе маленькими глотками, икая и пошучивая, дышать свежим воздухом и слушать пение дроздов, гнездящихся на тополе во дворе.
Когда это жилище из монастырского сделалось мирским, в нем ничего не пришлось менять. Оно и раньше было создано для мирской суеты, и жизнь, какой тут зажили новые обитатели, не отличалась от прежней: только стала еще прекрасней, освободившись от противоречия между светским и духовным укладом, и потому гармония ее теперь совершенна. Жизнь течет здесь с несравненной приятностью. На заре поют петухи. Усадьба просыпается, сторожевых псов сажают на цепь, служанка идет доить коров, пастух берет на плечо свой посох, батрачки приступают к полевым работам – и трудовой день начинается. Труд на земле кажется здесь нескончаемым праздником, потому что работники все время поют. Голоса высоко, вольно несутся в чуткой тишине оттуда – с нив, со вспаханных полей, где белеют рубашки из сурового полотна и алеют, точно маки, платочки с длинной бахромой. В этом труде не чувствуется ни усилия, ни напряжения. Он совершается легко, как хлеб зреет на солнце. Плуг словно не бороздит, а ласкает землю. Колос сам собой, любовно падает в лоно увлекающего его серпа. Вода знает, где почве нужна влага, и, сверкая, сама хлопотливо бежит туда. В этих благословенных краях, как в Лациуме, Церера осталась богиней земли и всему благоволит, всему споспешествует. Она укрепляет руку земледельца, освежает его потное лицо, снимает с его сердца всякую заботу. И те, кто ей служит, сохраняют веселую ясность духа в самом тяжком труде. Такой была благостная жизнь древних.
В час дня – сытный, основательный обед. Усадьба дает в изобилии и вино, и масло, и овощи, и плоды – и все это вкусное, свежее, питательное, не то что в городе, потому что принимается прямо из рук господа бога, минуя рынок и лавку. Ни в одном дворце взыскательной Европы не едят так вкусно, как в португальской деревне. В закопченной кухне, где всей утвари – два глиняных котла, а в очаге на полу пылает несколько поленьев, деревенская стряпуха, засучив рукава умеет приготовить пир, который привел бы в восторг самого Юпитера, небесного гурмана, вскормленного на нектаре, – ведь с тех пор, как появились боги на небе и на земле, именно он ел больше всех и умел лучше всех наслаждаться едой. Кто никогда не пробовал сваренного в котелке риса, не едал пасхального ягненка, зажаренного целиком на вертеле, не пробовал цыплячьих потрохов, родившихся вместе с Португальским королевством и уносящих нас в рай, тот не может знать по-настоящему, в чем заключается та несравненная, грубо-земная и такая божественная радость, которую во времена монахов называли «чревоугодием». И вся эта усадьба, с нежной тенью виноградных шпалер, сонным журчаньем оросительных канав, золотом нив, – то тускнеющим, то ярко горящим, – дарит лучше всякого иного земного или небесного рая чувство покоя тому, кто встал, отяжелевший и довольный, поев этого риса и этого ягненка!
Если полдень здесь немного слишком материалистичен, то вскоре вечер внесет в вашу жизнь необходимую душе толику поэзии. Погасло на небе золотое сиянье, этот дерзновенный блеск, который слепит глаза и почти раздражает. Теперь, умиротворенное, дружелюбное, оно изливает нежность и мир, которые проникают в душу, вселяют в нее такую же нежность и умиротворение. Это редкий миг, когда небо и душа братаются и понимают друг друга. Деревья стоят неподвижно и смотрят почти как разумные существа. В тихих, коротких трелях птиц угадываешь сознание уюта и счастья в родном гнезде. Утомленное, сытое стадо вереницей бредет с пастбища и останавливается пить у бассейна, где под крестом лениво плещется вода. Колокол звонит к «Аве Марии», и во всех домах шепчут имя божие. Запоздалый воз с сеном скрипит на темнеющей дороге. Все так спокойно, так просто и нежно, дорогая моя крестная, что, сидя где-нибудь на каменной скамье, я всеми порами чувствую проникновенную благость природы; я в таком согласии с ней, что душа моя, закоснелая в мирской грязи, уже не помнит ни одной мысли, которую нельзя было бы рассказать святому…
Право же, здешние вечера возвышают душу. Воспоминания всей прожитой жизни уходят куда-то далеко, за сосны и холмы, как забытая невзгода. Поистине, мы живем в дивном монастыре, где нет устава и нет аббата. Наш единственный устав – святость окружающей природы, и наша молитва без слов быстрее доходит к богу.
Вот и стемнело: уже загораются светляки на живых изгородях. Крошечная Венера блестит в вышине. Комната наверху полна книг, запертых там еще святыми отцами. С тех пор, как этот дом не принадлежит духовному ордену, он одухотворился. День в усадьбе заканчивается неторопливой, спокойной беседой о мыслях, о книгах; где-то неподалеку гитара наигрывает фадо, исполненное печали и горестных вздохов. А луна, круглая и красная, поднимается из-за темных гор и как будто слушает и заглядывает в глубину балкона…