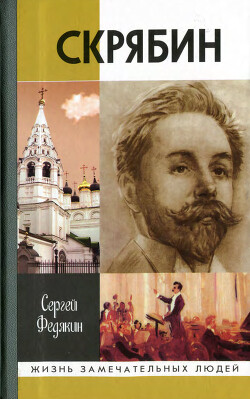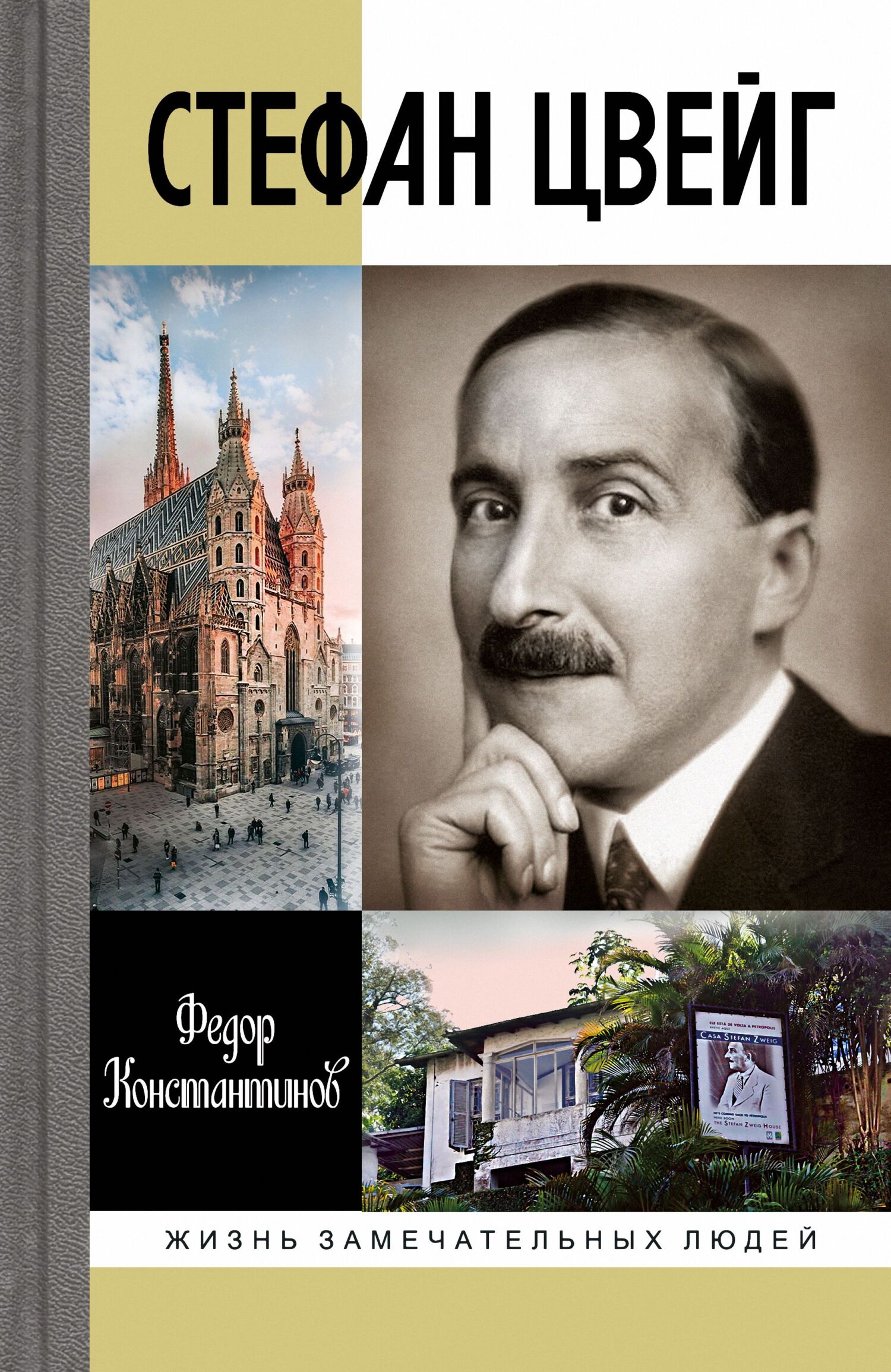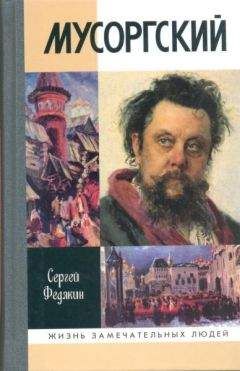Скрябин, когда говорил о Шопене, был уже весь пронизан идеей «Мистерии», всечеловеческого единого действа. В сущности — в нем жила идея соборности, только «на скрябинский лад». И если исходить в оценке Шопена из такой идеи, то покажется несомненным, что узость воззрений мешала гениальной музыкальности польского композитора воплотиться в полной мере, то есть найти себя в большой задаче, которая превосходит простое музыкальное сочинительство. В сущности, для позднего Скрябина «музыкальность» есть именно основа для выхода за пределы чистой музыки. И в этом нет никакого парадокса: композитор, менее музыкальный от природы, больше внимания будет обращать именно на музыкальную сторону своего творчества, тот же, кому музыкальность присуща изначально, может использовать ее для более важных и крупных целей.
В юном Скрябине это отрицание Шопена жило подспудно, здесь уже были точки «отталкивания» от своего кумира, который со временем все больше становился «прежним». Но осознать это он сам еще не мог. Пока он был ведом одной своей музыкальностью: именно через собственную музыку позднее придет к ясному пониманию огромной задачи, стоящей перед ним. В эти же годы для Скрябина на первом месте стояла именно музыкальность как таковая. Ей он поклонялся. Она становилась преобладающей стихией в характере композитора.
Музыкальность Скрябина бросается в глаза каждому, кто знакомится с его музыкой. В том числе и друзьям «на всю жизнь», семье Монигетти. И лечивший кадетов доктор, Иван Карлович, племянник известнейшего архитектора Ипполита Антоновича Монигетти, и жена его, Елизавета Алексеевна, и дети — Володя, Зина, Оля — обожали музыку. Но замечательна эта семья и разнообразием характеров: докторская «строгость» Ивана Карловича, особая аристократическая стать Елизаветы Алексеевны («мудрейшей из мудрейших мудрецов», как шутливо обронит однажды Скрябин), остроумие и добродушная веселость Володи, обворожительность в общении Зины и музыкальность, артистизм Оли, серьезно изучавшей музыку. За этой «разностью» у всех была и общая черта — теплота и внимание к гостю.
Кроме того, приятелей Сашу и Леню влекли сюда особые чувства: к девушкам они относились с рыцарским обожанием. Леня был увлечен Зиной, Саша — Олей. Позже Александр Николаевич вспомнит: «У нас в кадетском корпусе все были того мнения, что у барышень Монигетти самые хорошие ножки во всей Москве». Но в чувствах двух кадетов к девушкам не было и не могло быть и тени «фривольности».
Эти субботние вечера, полные детской влюбленности, чистоты и особой строгости, Скрябин наполнил музыкой, был встречен ответным восторгом и постепенно из Саши превратился в «Скрябочку». Для сестер Монигетти, которые прочно войдут в его жизнь, «ранний» Скрябин, тот, который «запал» в душу в эти годы, будет «лучшим». Но всегда его творчество, и более позднее в том числе, будет важной частью их жизни[18].
В этом доме — по воспоминаниям Лимонтова — «было много тепла, уюта и музыки». Не удивительно, что именно Монигетти первыми примут последней «кадетской» зимой «хор трубачей».
…Прощальные месяцы в корпусе начались в преддверии Рождественских каникул. Было что-то радостное и печальное в этом времени.
К зимним праздникам «хор трубачей» задумал особое развлечение: они шили клоунские костюмы — одного фасона, но разных цветов, разучивали польки, кадрили, мазурки, вальсы. В праздники собирались, кутаясь в шинели, катить на извозчиках по городу, чтобы, завидев в том или ином доме праздничные огни, поспешить на бал всей музыкальной командой.
Скрябин идеей загорелся. Он составлял с Лимонтовым партитуры, на сыгровках взял на себя роль капельмейстера. На первом выступлении у Монигетти хохотал, прыгал, веселился, как ребенок. Но в другие места ехать отказался. Лимонтов убеждал, уговаривал, упрашивал — все было понапрасну. Скрябин уже отдалялся от товарищей по корпусу, все более уходя в музыку.
* * *
Если в корпусе Скрябин выступал в роли зрелого музыканта, то в консерватории своим поведением он был более похож на подростка. Как, впрочем, и другой «зверевец» — Сергей Рахманинов.
«К несчастью, — вспомнит последний спустя многие-многие годы, — я не испытывал ни малейшего интереса к контрапункту в строгом стиле, ко всем этим имитациям и обращениям, увеличениям, уменьшениям и другим украшениям в cantus. Я находил все это смертельно скучным, и самые восторженные похвалы и красноречивые речи высокочтимого Танеева не могли склонить меня к другому мнению. То же самое испытывал и мой одноклассник Скрябин».
Из пяти человек, учившихся у Танеева, эти двое были самыми «нерадивыми». Они пропускали уроки, являлись пред очи наставника, не выполнив заданий, отговаривались многочасовыми занятиями на фортепиано.
Танеев поначалу терпел и огорчался. Потом стал действовать через Сафонова. Но Василий Ильич оказался слишком мягок для воспитательной роли, он лишь пожурил молодежь.
На Рахманинова Танеев нашел управу. «На клочке нотной бумаги, — вспоминал тот, — он писал тему и присылал ее к нам домой со своей кухаркой. Кухарке было строго-настрого приказано не возвращаться, пока мы не сдадим ей выполненные задания. Не знаю, как подействовала эта мера, которую мог придумать только Танеев, на Скрябина; что касается меня, он полностью достиг желаемого результата: причина моего послушания заключалась в том, что наши слуги просто умоляли меня, чтобы кухарка Танеева как можно скорее ушла из кухни. Боюсь, однако, что иногда ему приходилось долго ждать ужина».
Но Рахманинова выправили не только мольбы слуг. Ему помогло и честолюбие. Услышав о «большой золотой медали» — ее давали по окончании за отличные результаты в обучении по двум специальностям, — он приналег на теорию. Скрябин оказался менее податлив.
Любовь Александровна расскажет о неискоренимой нелюбви к полифонии строгого письма у племянника: «Бывал Саша у С. И. Танеева, который задавал ему разные теоретические задачи, при этом сам уходил и запирал его в комнате на ключ иногда часа на два. Но случалось, что Сашенька вылезал из окна, так как квартира Танеева была в нижнем этаже, и, прибежав домой, садился за свои занятия как ни в чем не бывало».
И все же в первой биографии Скрябина, писавшейся Энгелем по горячим следам, есть — хоть и не от первого лица — свидетельство самого наставника по контрапункту, которое заметно расходится со всеми мемуарами, почти в один голос уверявшими, что Скрябин (как и Рахманинов) всячески «отлынивал» от занятий:
«Танеев, как и Сафонов, рассказывает про Скрябина, что он был очень исполнителен. Писал все, что полагается: контрапункты нота против ноты, две ноты против ноты, три ноты против ноты, имитации и т. д., словом, проделывал все, что было задано. Но особенной любви к работе, да и собственной инициативы не обнаруживал, стараясь даже в пределах заданного сделать поменьше, полегче. Иногда это старание быть аккуратным и в то же время уменьшить свою работу выражалось в курьезных формах. Так, например, темы для имитаций Скрябин старался выбирать покороче, — все-таки это уменьшало количество тактов в задаче, стало быть, и труда требовалось меньше»[19].
Эти «темы покороче» еще объявятся в позднем творчестве Скрябина. Музыкальные критики, настроенные против его звуковых открытий, не раз упрекнут композитора в крайней «сжатости» тем, не чувствуя, что эти краткие «музыкальные формулы» обладают всесокрушающей внутренней энергией, обретая способность с большей легкостью входить в контрапунктические соединения. Возможно, эта «экономия нот» у юного Скрябина поначалу и была воплощением желания «побыстрей отвязаться». Но не было ли здесь и другого стремления: добиться тематической «плотности», не ронять на бумагу лишних, «никчемных» знаков?
Слово «лень», во всяком случае, не очень точно определяет поведение Скрябина, как и Рахманинова, в танеевском классе[20]. Тем более что и к учителю своему они не могли относиться «кое-как». «Все же у Танеева, — вспоминал Энгель, сам прошедший ту же школу, — нельзя было ничего не делать: он весь был олицетворенная добросовестность. Если и случалось иногда ученику ничего не принести на урок, то Танеев так искренно огорчался и обижался, что проделать это еще раз было прямо стыдно».