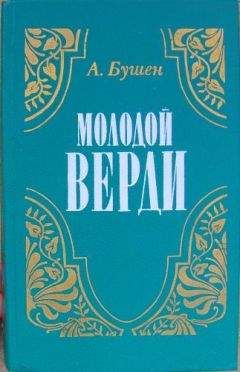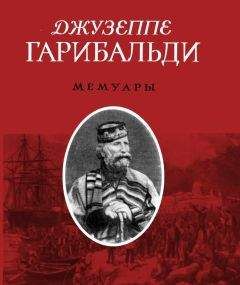Но Верди отвечал неохотно и односложно. А чаще всего отмалчивался. Он был занят своими мыслями. Он думал о том, что опера его опять провалилась.
На другой день публики в театре было еще меньше. Еще меньше было и аплодисментов. И даже было несколько — как бы предупреждающих — свистков.
Через два дня Джованни уехал домой, в Буссето. Верди остался в Генуе. Почему остался — он и сам не знал. Никакого дела у него не было. Решительно никакого! Он был совершенно свободен и никому не нужен. Никто его не разыскивал. Никто им не интересовался. Так как он болезненно чуждался людей и тщательно избегал новых знакомств, то проводил время в полнейшем одиночестве.
Утром он спускался к морю и долго шел по берегу. Он ни о чем не думал и ничего не желал. Он вдыхал полной грудью свежий солоноватый воздух; он погружался в созерцание безбрежного водного пространства; он часами слушал равномерно повторяющийся всплеск волны, разбивающейся о берег. После этих прогулок он чувствовал себя лучше — сильнее и спокойней. Ритм моря был организующим началом для его смятенного сердца, для его подавленной психики.
Днем он заходил в жалкий кабачок в глубине двора на улице Сан Себастиано. Туда ходили обедать бергамасские грузчики, работавшие в порту, и целый день толкались всякого рода темные личности, драчливые и предприимчивые, — мелкие жулики и опытные воры, нещадно избиваемые шулеры и незадачливые аферисты — человеческая накипь портового города, как будто выброшенная на берег волной вместе с деревянными обломками погибших кораблей и кухонными отбросами, спущенными за борт корабельным коком. В кабачке стоял невообразимый чад и гомон, но Верди было все равно, где проглотить тарелку жидкого супа, заедая его хлебом. По крайней мере он был спокоен, что здесь, в этом темпом притоне, ему не угрожает встреча с кем-нибудь, кто признает в нем неудачливого композитора и гонимого судьбой человека.
Вечером композитор, как завороженный, направлялся в театр. В тот год гвоздем сезона в Карло Феличе была «Весталка» Меркаданте. На одно из представлений этой оперы попал и Верди. Театр был полон. Публика настойчиво вызывала автора и устраивала ему шумные овации. Саверио Меркаданте, маленький, коренастый неаполитанец с кирпично-красным лицом и хитрыми глазками, охотно появлялся на сцене. Он, улыбаясь, раскланивался на все стороны, закатывал глаза и посылал публике воздушные поцелуи. Верди тоже аплодировал — негромко и редкими хлопками. Он аплодировал ради приличия — только для того, чтобы не привлечь к себе внимания окружавших его и громко восторгавшихся людей. «Весталка» была ему не по душе. Музыка казалась ему холодной, действие надуманным, персонажи напыщенными. Только речитативы Меркаданте заставили Верди внимательно прислушаться и насторожиться. Здесь, в речитативах, крылось нечто новое. В них была не только живая, выразительная декламационность, непревзойденным мастером которой по-прежнему оставался Россини. Речитатив Меркаданте преследовал, казалось, иные цели, чем наиболее точная передача естественных интонаций живой человеческой речи. Он — этот речитатив — захватывал, казалось, область более глубокую, область внутренних переживаний, область психологическую. В нем чувствовалась попытка охарактеризовать действующее лицо посредством музыкальной интонации.
Верди задумался над этим, возвращаясь из театра по обыкновению пешком. Он вспомнил фигуру кланяющегося Меркаданте. Вряд ли самодовольный, недалекий неаполитанец интересовался разрешением каких бы то ни было психологических задач. Он всегда старался угождать вкусам публики, был ловок и хитер. И оперы его имели успех.
Верди вздохнул и невольно подумал об «Оберто». Опера не дала сборов, и импресарио не считал возможным ставить ее целиком. Шли только отдельные отрывки, вперемежку с модными в том сезоне балетными сценами и сольными ариями из опер других, более счастливых и любимых публикой композиторов. Верди не делал себе иллюзий. Опера его провалилась. Провалилась без каких бы то ни было эксцессов, без шумного скандала, без громкого протеста со стороны слушателей. Опера никого не тронула и никого не взволновала. Публика в театре осталась равнодушной. И это равнодушие обрекло оперу на небытие. Верди сознавал это совершенно ясно. Сознавал и то, что он бессилен изменить что-либо в судьбе своего несчастного первенца.
Но сегодня эта мысль как-то утратила свою мучительную остроту. Композитор чувствовал себя больным, усталым и разбитым. Он еле передвигал ноги и часто спотыкался. Один раз он чуть не упал. Носком сапога он задел лежавший у него на пути небольшой осколок отполированного мрамора. Круглый, гладкий осколок покатился, подпрыгивая и постукивая по каменным плитам, которыми была вымощена улица. Дорога шла под гору, и композитор долго слушал стук и шорох катившегося камня. Потом камень ударился о неожиданное препятствие, сухо треснул и отпрыгнул с дороги в сторону. Стало тихо. По небу плыла луна. Старые крепостные стены были залиты голубым светом. Величественные мраморные дворцы были безмолвны и казались неприступными. Композитор двинулся дальше. Тень его лежала распростертой у его ног. Верди думал о том, что оставаться дольше в Генуе бессмысленно. Пора возвращаться в Милан.
На другой день вечером Верди в последний раз направился в Карло Феличе. В течение дня он сговорился с веттурино и рано утром должен был выехать в Милан. Когда он подходил к театру, ему бросилось в глаза, что на площади необыкновенно много гуляющих. К Карло Феличе один за другим подъезжали экипажи. Все билеты были проданы. В вестибюле стояла толпа. По широким мраморным лестницам поднималась нарядная публика. Мужчины с легким поклоном пропускали дам вперед. Шурша шелками, улыбкой и взглядом встречая знакомых, генуэзские дамы проскальзывали в ложи. Было много приезжих из окрестностей — из Корнильяно, из Пельи, из Сестри ди Поненте. В тот вечер в Карло Феличе выступал скрипач-виртуоз Камилло Сивори. Это и было причиной огромного стечения публики.
Программа была составлена из оперных отрывков и балетного дивертисмента сочинения модного хореографа Антонио Монтичини. Но на этот раз и оперные отрывки и балетные номера играли второстепенную роль. Они должны были заполнить «пустоты» между отдельными виртуозными пьесами в исполнении Сивори.
Вечер начался с «Оберто». Шло первое действие, сокращенное до неузнаваемости. Когда зазвучала музыка и поднялся занавес, в переполненном, празднично освещенном зале ничего не изменилось. Оживленные разговоры не только не смолкли, но даже стали громче. Музыка воспринималась как помеха, как непрошенный шум, из-за которого приходилось напрягать голосовые связки.
Многие зрители сидели спиной к сцене и не интересовались тем, что там происходит. Каждая ложа была салоном, где дамы принимали поклонников и друзей. Мужчины из партера лорнировали ложи и обходили знакомых. Двери почти непрерывно открывались и закрывались. Почти никто не заметил, как кончилось действие на сцене. Два-три небрежных хлопка проводили артистов. Сверху кто-то пронзительно свистнул и сразу умолк. Отзвучавшая музыка прошла мимо ушей. Она не стоила ни аплодисментов, ни свиста. Театр волновался в ожидании появления солиста-концертанта. Из-за занавеса выскочил импресарио. Почти молитвенно воздев руки кверху, извиваясь точно в мистическом экстазе, он повернулся к кулисе. Он млел от восторга, таял в улыбке. И тотчас в разных местах театра, как ружейные выстрелы, затрещали аплодисменты. Они превратились в сплошной гул овации. На сцену, раскланиваясь, вышел человек со скрипкой. Это был Сивори.
Ему было двадцать шесть лет. Он родился в Генуе, и Генуя гордилась им. Многие хотели видеть в Сивори преемника великого Паганини. На самом деле он был лишь его ловким подражателем.
Скрипач остановился у рампы. Хорошо изученным, несколько театральным жестом он вскинул скрипку на плечо и прильнул к ней внимательным ухом. Он ждал, чтобы публика успокоилась. Разговоры прекратились. Все взоры были обращены на сцену. Тогда скрипач навел смычок на струны и стал играть. Звуки тянулись, как тончайшие серебряные нити, из которых виртуоз безошибочно плел тонкий и замысловатый рисунок. Сивори играл легко, изящно и бездумно. Паганини был в своем искусстве вдохновенным творцом и бесстрашным новатором. Он был дерзким исследователем, открывшим новый мир в одной струне. Сивори был скрипачом, повторявшим только то, что уже было сказано его учителем. И, повторяя, он приспосабливал смелые дерзания музыкальной мысли к существовавшим вкусам публики. Под его смычком стихийный вихрь превращался в легкое дуновение, в игру веера в руке красавицы. Под его горячими, умело и безжалостно натренированными пальцами сатанинский хохот звучал вежливым смехом, вопли страданий — томными вздохами, любовная страсть — сонетом, написанным чичисбеем. Паганини владел тайной и стихией искусства — он казался чародеем. Сивори был мастером, выучившимся играть на музыкальном инструменте, — он был виртуозом. Он повторял мысли и чувства, рожденные и выстраданные другими, но сам не жил ими, не волновался и не страдал. Он увлекался только внешней музыкальной формой этих мыслей и чувств. Выводы и обобщения он делал с точнейшим расчетом и блистательным мастерством виртуоза. Исполнение его было законченным и привлекательным. Оно не заставляло задумываться, не исторгало слез, не волновало сердец глубокой радостью. Но оно тешило слух чувственной прелестью звука, безупречной чистотой интонации и легкостью в преодолении трудностей.