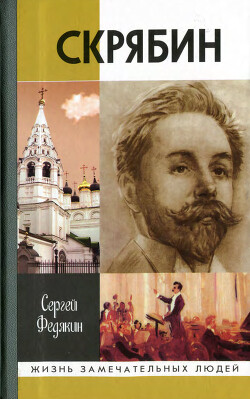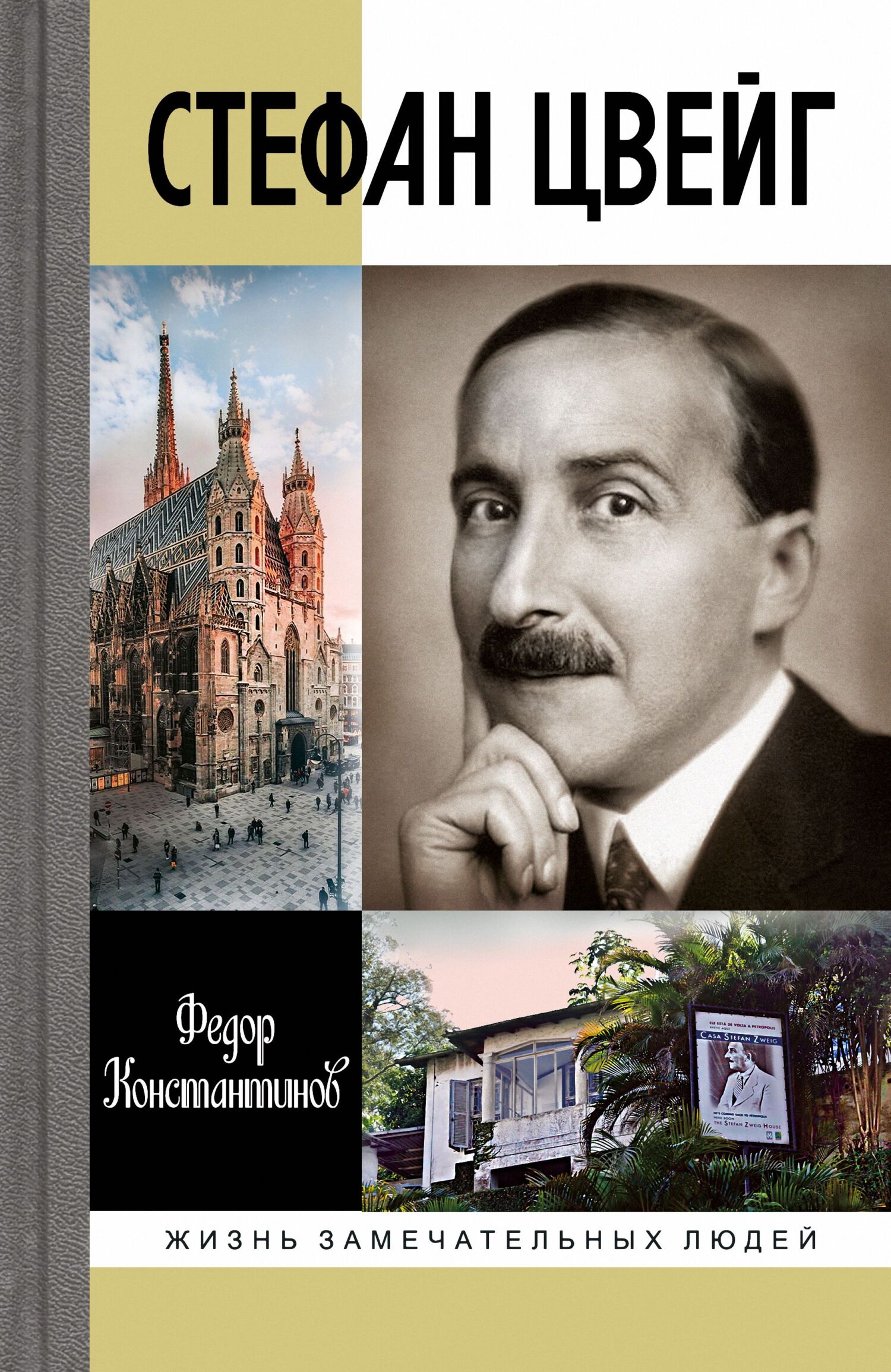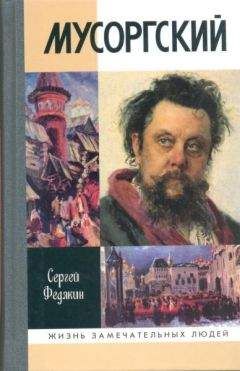Ее прихода ждали. Скрябин, рядом с женой и Маргаритой Кирилловной, сидел как на иголках. Когда раздался звонок — побежал к двери — и вдруг, перепуганный и растерянный, вбежал назад, в комнату: «Татьяне Федоровне дурно!»
Их отношения скоро перестанут быть отношениями учителя и ученицы. Вера Ивановна примет это со вздохом. Чем это обернется в будущем, она не могла и предположить. Ей казалось: роман перегорит, все встанет на свои места.
А Скрябин явно воодушевлен. Впервые, в лице брата и сестры Шлёцеров, он видит самых горячих приверженцев и его музыки, и его идей. И музыка его впрямь начинает все более напитываться новыми идеями, новыми гармониями.
* * *
Его многострадальная Вторая симфония прозвучит снова в Москве 21 марта 1903 года, на этот раз под управлением Сафонова. В симфонию дирижер вложит все свои силы. Но и в этот раз композитора не поймут, так же как не поняли в Петербурге.
Когда Александр Николаевич Скрябин уйдет из жизни и современники начнут «подводить итоги», они вспомнят и эту премьеру.
«Многим, вероятно, памятен тот неслыханный скандал, которым сопровождалось ее первое исполнение… — напишет Евгений Гунст. — Уже на репетициях враждебно настроенный оркестр отказывался играть это сочинение.
Поведение оркестрантов было крайне вызывающим. Композитор чувствовал себя совершенно не гарантированным от каких-либо самых грубых эксцессов с их стороны.
Но это были еще цветочки.
Ягодки появились в самом концерте. Симфония прошла под оглушительный свист, шум и шиканье многочисленной аудитории.
Это был такой грандиозный по своим размерам протест, какой возможен лишь там, где дело идет о чем-то из ряда вон выходящем.
Симфония, очевидно, казалась слушателям таким необычным сочинением, таким смелым, может быть, граничащим с безумием новаторством, дерзко противоречащим всему их рутинерскому укладу, что они не могли не кричать, не могли сдержать потока негодования, вырывавшегося, как лава из огнедышащего вулкана».
Юлий Энгель откликнется на признания Гунста. В своем очерке о жизни и творчестве Скрябина он цитирует этот пассаж, словно бы укоризненно качая головой:
«Я присутствовал на этом историческом концерте и, на основании личных воспоминаний и записи того времени, должен заявить, что дело происходило нс так. Симфония прошла при полной тишине в зале, — без свиста, шума, негодующих криков и т. п. Только по окончании симфонии, после того как часть публики стала аплодировать и вызывать композитора (его два раза вызвали), послышались и протесты (шиканья) другой части публики против этих вызовов. Но эта «другая часть» была, по сравнению с первой, крайне мала, — в сущности были единичные лица, шикавшие, однако, при обоих вызовах. Во всяком случае ничего подобного «огнедышащей лаве» и проч, не было. Это на концерте. О том, что происходило на репетициях, до концерта, могу говорить лишь предположительно; но несомненно, что и здесь краски у г. Гунста сгущены не меньше. Я, по крайней мере, о возможности «самых грубых эксцессов» со стороны оркестра ни от кого не слышал. А расспрашивал я оркестрантов о репетициях старательно, так как сам на них не мог бывать из-за преград, созданных Сафоновым».
Доверять свидетельствам современников всегда можно лишь с осторожностью. Разноречивость свидетельств порой доходит до совершенно противоположных утверждений. Но есть и еще одно свидетельство — тети Скрябина. Здесь прошедшее запечатлелось в любящем, преданном сердце. И значит — с подлинной точностью:
«Перед тем как ехать в концерт, Шуринька сказал мне: «Тетя, ты не волнуйся и не тревожься, если услышишь шиканье и свистки по окончании моей симфонии. Это так должно быть, и меня это нисколько не беспокоит. И ты будь спокойна, как и я». Я все же не могла не волноваться, тем более что во время исполнения чувствовала в публике какое-то беспокойство. Действительно, по окончании симфонии половина публики подошла к эстраде с сильными аплодисментами. Остальная часть осталась на своих местах. Поднялся страшный шум, шиканье, свистки и даже были возгласы: «Долой с эстрады!» Чем больше шикали одни, тем сильнее аплодировали другие. В зале стоял какой-то невообразимый шум. Аплодисменты были так сильны, что А. Н. пришлось выйти на эстраду, с ним вышел и Сафонов. Бледный, но совершенно спокойный и даже с улыбкой смотрел А. Н. на публику».
В 1910-е годы, когда Скрябин будет уже автором «Поэмы экстаза», а потом и «Прометея», многострадальную симфонию его наконец «расслышат». У публики она будет пользоваться популярностью. И критики, словно открывая совершенно новое произведение, будут поражаться красоте этой музыки. Некоторые рецензенты не побоятся назвать Вторую симфонию гениальной, причем — мимоходом, как говорят о вещах очевидных. В 1903-м отзывы скромнее, но, в большинстве, лучше прошлогодних петербургских. И все же до полного понимания этой музыки еще далеко. Энгель увидел в Скрябине «вагнериста»:
«Напряженные диссонирующие хроматические гармонии; нервный, синкопированный ритм; порывистая, точно вскрикивающая мелодика; грузная, массивная оркестровка — вот излюбленный музыкальный язык Скрябина. Всем этим автор нередко злоупотребляет. Особенно диссонансами и массивной звучностью (чем, до некоторой степени, объясняется и неприязненное отношение части публики к симфонии), но всему этому нельзя отказать в силе, оригинальности, а очень часто и в красоте».
В других откликах будет и «закрашенная гармоническими экстренностями и неожиданностями банальность», и — в эпизодах — «первоклассная красота». Будет и самое поразительное:
«Своими блужданиями без ясно поддающегося анализу плана, своими один на другой навешанными диссонансами, однообразно — густой и крикливой оркестровкой Скрябин подчас так утомить может, что невольно радуешься, когда у него наступает что-либо с определенной резкостью ритмованное, вроде маршеобразного финала второй симфонии».
Современник не мог ни разглядеть ясности формы, ни оценить самого интересного в симфонии. Его ухо оказалось восприимчиво лишь к несколько помпезному финалу, поскольку в гармониях он был проще.
Но все неясности и неточности откликов на мартовский концерт, все многочисленные «за» и «против» покрываются полным неприятием критика из «Русского слова», подписавшегося «Диноэль». Не в силах раздражаться каждым диссонансом, которых он услышал в невероятном множестве, рецензент дал полную волю сарказму. Его ухо порадовала наступившая за симфонией тишина, после — звук настраивающегося оркестра: здесь Диноэль наконец-то услышал дорогую его сердцу чистую квинту.
За злыми словами разгневанного критика стоял Леонид Максимов, тот самый Леня Максимов, с которым Скрябин когда-то учился у Зверева. Судьба решила повторить давнюю историю из жизни русской музыки: когда-то столь же неумно и с такою же бестактностью на «Бориса Годунова» обрушился давний знакомый Мусоргского, Цезарь Антонович Кюи…
* * *
К скандалу вокруг симфонии композитор отнесся довольно спокойно. Вряд ли могли его поразить и успехи иных его концертов из более ранних произведений. Даже московский концерт годовой давности, с «Мечтами», с Первой симфонией и 3-й сонатой, с несколькими прелюдиями. Тогда напишут и о подлинной современности его музыки, и о «богатом таланте». Но сам композитор уже отходил от этого прошлого. Он нащупывал новый путь. Только этот путь и был ему интересен.
Василий Ильич первым почувствовал особую черту творчества своего бывшего ученика. В 1896 году он напишет весьма многозначительный акростих на фамилию «Скрябинъ»:
Силой творческого духа
К небесам вздымая всех
Радость взора, сладость уха
Я для всех фонтан утех.
Бурной жизни треволненья
Испытав как человек,