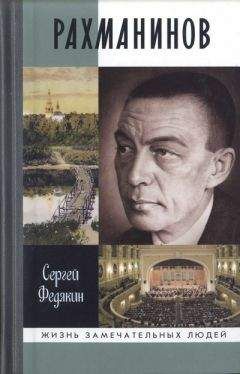Стихи Алексея Толстого в его романсе — как весть из мира несбывшихся возможностей. «Много звуков в сердца глубине» настойчиво просились наружу. Потому и в любовной лирике проглядывает тема творческого уединения, — то в стихах Глафиры Галиной («У моего окна черёмуха цветёт…»), то в маленьком — куда более совершенном — произведении Бунина:
Ночь печальна, как мечты мои…
Далеко, в глухой степи широкой,
Огонёк мерцает одинокий…
В сердце много грусти и любви.
И другие романсы подобны тени несозданных музыкальных драм. «Кольцо» Алексея Кольцова напоминает о гадании Марфы из «Хованщины» Мусоргского:
Я затеплю свечу
Воска ярого,
Распаяю кольцо
Друга милова.
Загорись, разгорись,
Роковой огонь.
Распаяй, растопи
Чисто золото.
Его же «Два прощания» — беседа баритона и сопрано. Романс превращается в набросок драматического действия о неразделённой любви.
Маленькая драма — и в романсе на стихи Якова Полонского, где за сдержанными фразами слышится эхо душевных невзгод:
Вчера мы встретились; — она остановилась —
Я также — мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щёки побледнели…
Ариозная патетика проступила в сочинениях на стихи Мережковского «Христос воскрес» и «Пощады я молю», декламационное начало слышится в романсе «Я опять одинок!» на бунинский перевод из Тараса Шевченко. В цикле словно ожила мечта о ненаписанной опере.
Но есть и другие романсы. Похоже, ужас, пережитый в Италии, подталкивал к темам самым мрачным. Здесь и тютчевское «Всё отнял у меня казнящий Бог…». И горькие строки Хомякова:
Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога…
Это стихотворение могло взволновать одним «сюжетом»:
Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнате жизни, кроватка пуста;
В лампаде погас пред иконою свет.
Мне грустно, малюток моих уже нет!
И сердце так больно сожмётся!
Понятен в этом контексте и романс-призыв на стихи Арсения Голенищева-Кутузова «Пора в родимый край, пора в лесную глушь!». И — самое неожиданное сочинение цикла — на слова Сони из чеховского «Дяди Вани»: «Мы отдохнём! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир…»
В новом вокальном цикле исключительна роль фортепиано. Композитор и сам заметит: в «Ночь печальна», в «Пощады я молю» фортепиано важнее голоса, и вообще у пианиста «роль труднее»[134]. Многие романсы стали здесь пьесами для голоса и фортепиано, где клавишный инструмент становится ведущим. В «Кольце» слышишь мрачно-тревожное колебание пламени свечи. В романсе «Фонтан» вода струится, разлетается брызгами, кажется даже, что видишь, как они сверкают и переливаются в солнечных лучах.
Последний романс цикла написан на стихи Даниила Ратгауза. Гладкие строки, банальные слова… Но и чувства эти, тоже не новые, посещали с неизбежностью:
Проходит всё, и нет к нему возврата.
Жизнь мчится вдаль, мгновения быстрей.
Где звуки слов, звучавших нам когда-то?
Где свет зари, нас озарявших дней?..
О том, чтобы пожить в Европе, он думал ещё во Флоренции. Но и тогда понимал, — как признается Морозову, — «я могу жить хотя бы за границей, если слажу с своей тоской по России». В конце августа он решился: отказался от должности инспектора Екатерининского института, от договора с Большим театром, от места дирижёра в симфонических концертах Московского отделения РМО… Что побудило сорваться с места и уехать на зиму из России, всего точнее объяснила в своих воспоминаниях жена композитора: «Суета, постоянные телефонные разговоры, сильно увеличивающееся число друзей и знакомых — всё это не давало ему необходимого для этой работы покоя. Он искал уединения и поэтому решил уехать за границу». После революционной сумятицы, где перемешалось всё: и благородные порывы, и вседозволенность, и жертвенность, и жестокость, — хотелось порядка и тишины. Такой ему виделась Германия.
В конце сентября к Рахманиновым на Страстной бульвар из Екатерининского института пришли заведующая музыкальной частью и одна из воспитанниц. В комнату внесли ящик. Известие о подарке для его доченьки от всех учениц училища привело Рахманинова в восторг.
И через многие годы бывшая институтка вспомнит эту встречу с навернувшимися слезами: как Сергей Васильевич познакомил с женой, как ожидали пробуждения ребёнка. На робкий вопрос, вернётся ли он когда-нибудь к ним, Сергей Васильевич дал ответ, который не вселял больших надежд: «Неизвестно ещё, как всё сложится. Всего вероятнее — нет». Девушка стояла робкая, огорчённая, с влажными глазами. Наставница её подтолкнула: «Ты ж мечтала о карточке Сергея Васильевича». Рахманинов достал из ящика стола фотографии, надписал и ей, и наставнице. Маленькую Ирину, которая ещё не отошла от дневного сна, принесли заплаканную. Открыли подарочную коробку. В ней большая кукла — и с приданым, как у институток: зелёное платьице, переднички, пелеринки, кроватка с сеткой, матрацем, подушками… И даже пюпитр и скамейки, как у институток, только маленькие. Всё это расставили на ковре. Ирина ещё не совсем проснулась, безучастно смотрела на подарок. Сергей Васильевич присел на корточки и радовался как маленький:
— Это необыкновенно! Будто и не кукла!
И принялся показывать дочке все эти чудеса[135].
Другой сюрприз ждал уже в вагоне: на их столике в купе лежала пышная ветка белой сирени[136].
… В октябре вся семья Рахманиновых перебралась в Дрезден. Город сразу понравился: старинный, чистый, зелёный, в садах. Хотелось пройтись по берегу Эльбы, по аллеям парка. К ночи улицы пустели, мир погружался в тишину. Лишь иногда за окнами слышались гулкие шаги одинокого прохожего.
Композитор полон замыслов. Но к тайному готов приобщить только Слонова: «Милый друг Михаил Акимович, о том, что я пишу тебе сейчас, не должна знать ни одна душа».
Рахманинов хочет писать оперу по драме Метерлинка «Монна Ванна». От Слонова ждёт либретто. Для начала — несколько страниц, на пробу. Пусть стихи будут нерифмованные, главное, чтобы «речь лилась естественно, как в прозе».
«Саламбо» отложена в сторону, мир карфагенского сюжета слишком уж экзотичен. «Монна Ванна» — сочетание социальной и романтической драмы — прочитана с волнением.
Здесь тоже город, осаждённый неприятелем, — теперь это Пиза конца XV столетия в кольце флорентийских войск. В городе нет ни пороха, ни пуль, ни еды. Переговоры с вражеским полководцем, Принчивалле, приносят неожиданную весть. Он готов помочь Пизе, но ставит условие. Жена Гвидо, начальника пизанского гарнизона, в знак покорности должна явиться к Принчивалле нагая, покрытая только плащом.
Гвидо в ярости, он готов и сам погибнуть, и городом пожертвовать. То, что Джованна готова идти к врагу на заклание, его поражает. С женой он расстаётся холодно.
В стане неприятеля — своя драма. Принчивалле — любимец флорентийцев. Но доносы завистников сделали его положение шатким. Комиссар Флорентийской республики желает убедить военачальника немедленно взять приступом Пизу. Тогда во Флоренцию он вернётся как триумфатор. Но Принчивалле знает, что комиссар — один из доносчиков, и разоблачает его.
Когда появляется Монна Ванна, она с изумлением узнаёт во вражеском военачальнике Джанелло, друга детства. Судьба давно развела их. Джанелло успел пережить и скитания, и войны, и плен. Он с детства любил Джованну. Теперь, увидев её, тут же отправил в Пизу провизию и боеприпасы. Монна Ванна признаётся, что не любит Принчивалле. А с Гвидо — счастлива настолько, насколько можно быть счастливой, забыв про неразумные мечты. Ей странно, что ради неё Принчивалле готов жертвовать будущим. Но он — наёмник. Он знает, что родине изменить не мог бы ни при каких условиях. Сейчас он предан властям лишь до той поры, пока те верны ему. Узнав, что его могут вот-вот арестовать, Принчивалле с Джованной уходит в Пизу. Она, с благодарностью, целует его в лоб.
Сцена в Пизе — это муки ревности Гвидо, восхищение толпы героической Монной Ванной, нежелание начальника гарнизона поверить в то, что Принчивалле вёл себя благородно. Пусть Джованна признается, что ей пришлось действительно жертвовать собой, или её спутник будет казнён. Она готова лгать во спасение благородного Принчивалле. Всё разрешается. Гвидо словно очнулся от тяжёлого сна. Джованна говорит: после тяжёлого сна начинается светлый.