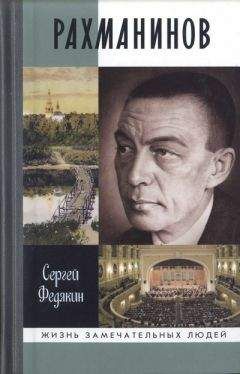С апреля он начинает испытывать беспокойство: за пять месяцев написано много, но ничего не завершено. Собственная оценка написанного — более чем пристрастна.
«Насчёт качества всех этих вещей должен сказать, что хуже всего Симфония. Когда я её напишу, а затем поправлю свою первую Симфонию, я даю себе зарок не писать больше Симфоний. Ну их! Не умею, а главное, не хочется их писать». О сонате скажет чуть теплее: «Несколько лучше Симфонии, но всё-таки сомнительных достоинств». Об опере, «Монне Ванне», — с любовью: «Она — всё моё утешение. Иначе — я совсем бы замучился. Но она же дальше всех от конца. А посему, что я в ней дальше сделаю — ещё неизвестно».
Опера так и останется незаконченной. Сонату не ожидает счастливая судьба. Именно симфония — та, что «хуже всего» — будет исполняться чаще всего.
Он торопился. Глухие упоминания о Париже в его письмах начались ещё с февраля. То в письме Морозову — несколько слов про «концерт, который мне мало улыбается», то Керзиной, что придётся ехать, хотя «мне это не совсем приятно». Приходилось больше работать за фортепиано, не хватало времени на сочинения.
Ещё одно обстоятельство могло внести напряжённость в его работу: он ждал прибавления в семействе. Состояние нервное. Незадолго до отъезда Рахманинов сообщит Никите Морозову: «Я занимаюсь целыми днями и горю в огне».
Клавир первого действия «Монны Ванны» закончит в середине апреля. Через месяц завершит свою сонату. Перед самым отбытием.
Русские сезоны в Париже знаменитыми станут не сразу. Их устроитель, Сергей Павлович Дягилев, войдёт в историю как выдающийся импресарио. Благодаря его энергии Европа начнёт по-настоящему открывать русское искусство. Толстой и Достоевский уже покоряли европейские умы. Франция открыла Мусоргского и Римского-Корсакова. Но русская культура во всём её многообразии только-только начинает завоёвывать сердца парижан. И «Русские исторические концерты» 1907 года — лишь начало.
Музыкантов, которые собрались в Париже, Дягилев угадал безошибочно: Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин, Рахманинов, Шаляпин, Иосиф Гофман, Артур Никиш… Но далеко не всё у импресарио получалось гладко. Один из очевидцев, Маргарита Кирилловна Морозова, припомнит, как кипел Александр Николаевич Скрябин по поводу разногласий с Сергеем Павловичем. Обнаружились изъяны в организации концертов, не вполне выверенной оказалась программа, не всё выходило и у дирижёров. Если уж у самого Артура Никита иной раз «не ладилось», то чего уж следовало ожидать от Камилла Шевийяра, который, при всей своей горячей любви к русской музыке, так и не смог должным образом совладать с оркестром. Римский-Корсаков, поняв, что Никит готовился к концертам второпях, собственными сочинениями предпочёл дирижировать сам. Его и запомнят: высокий, худой, в очках, старомодно взмахивает палочкой. И при этом — чёток и строг. На долю Корсакова и выпадет самая значительная волна оваций.
Рахманинов вышел на сцену 26 мая. Сначала исполнил свой Второй концерт (оркестром управлял Шевийяр). Потом кантату «Весна», где сам встал за пульт. Его впечатление от того, что он услышал, двоилось. Успех был несомненный. Но об оркестре он позже выскажется довольно критично: «…не выше посредственности»[139].
И тем не менее даже столь мимолётное знакомство парижан с русским музыкантом дало свои плоды. Из тех русских композиторов, кого здесь знали мало, Рахманинова расслышали лучше других. В откликах замелькает смесь суждений скороспелых и проницательных. Французы в его музыке увидели продолжение традиций Рубинштейна и Чайковского. Их здесь считали приверженцами «германского традиционализма». Колокольные звучности Второго концерта, как и нескончаемая мелодическая «горизонталь», почему-то не связались в умах критиков с русским миром, русским пейзажем, русским мелосом. Но о музыке писали с одобрением: Концерт звучал «подлинной симфонией», кантата и при очевидной «традиционности» обнаружила свежесть тем, «истинный лиризм». Сказали критики и о «совершенстве формы», «тонкости письма», «красочности» и «сдержанности» инструментовки, «безупречном благородстве вкуса»[140]. Последняя фраза изумительно точно схватила не только основополагающую черту музыки композитора, но и самый его артистический облик.
Париж аплодировал русскому хору, басу Шаляпина, контральто Евгении Збруевой. Но Европа почувствовала и большее — русскую культуру как часть культуры мировой. Как её передовую часть. И это ощущение пропитало всю атмосферу «Исторических концертов». Маргарита Морозова вспоминала, как русские «чувствовали себя преисполненными гордости и ходили по фойе театра, высоко подняв голову»[141].
В этом особом воздухе, в этом ежедневном «празднике» иным становилось и общение музыкантов. Жизнь в Дрездене отдалила Сергея Васильевича от суеты, от нескончаемых обязанностей и многочисленных случайных знакомств. И здесь, в Париже, он вдруг как бы сызнова окунулся в музыкальный мир, нашёл и собеседников. Одна встреча останется в памяти надолго.
С Римским-Корсаковым и Скрябиным они сидели втроём в кафе de la Paix близ Grand Opera. Скрябин горел идеей синтеза искусств и преображения мира. Он только-только завершил «Поэму экстаза», уверял, что это лишь первый шаг к главному сочинению. Ему виделся некий храм в Индии, где состоится грандиозное действо его «Мистерии». Оно соединит в себе и музыку, и гамму световых эффектов, и доселе небывалые танцы, а заодно и всё человечество. Скрябин упоён своими идеями. Его коллегам они явно не по нутру. Когда Скрябин принялся уверять, что каждая тональность имеет свой цвет, на лице Сергея Васильевича появилась скептическая улыбка. Но Корсаков неожиданно поддержал идею. Он тоже ощущал тональности в цвете! Договориться о всём спектре они не смогли: каждый видел своё. Но внутреннее зрение казалось Римскому и естественным, и необходимым. На сомнения Рахманинова он вдруг заметил:
— Однако почему ж тогда у вас в «Скупом рыцаре», в сцене в подвале, господствует D-dur[142], цвет золота? Значит, вы чувствуете так же!
Сам Корсаков работал над «Золотым петушком». В этой пушкинской сказке прозревало что-то необыкновенно глубокое. Говорил в бороду, поблёскивал очками. Только что закончил первый акт, теперь возьмётся за третий…
И Скрябин, и Рахманинов были изумлены: «Почему третий?.. Второй!..»
— Нет, — твёрдо заявил Николай Андреевич. — Я третий хочу написать раньше второго.
И опять Рахманинов почувствовал, что у Римского — учиться и учиться. Лишь начав писать, он уже ощущал своё сочинение целиком, понимал задачу до самых её глубин!
Разговор продолжится у Скрябина. В один из дней — ещё до рахманиновского концерта — Александр Николаевич всех пригласит к себе: Корсакова с женой и дочерью, Рахманинова, Глазунова, давнего приятеля пианиста Гофмана с женой, своего друга и покровителя Маргариту Морозову с сестрой.
После садов — небольшая, уютная квартира. Мягкая светло-зелёная мебель. Тихая обстановка — и тревожно-восторженные звуки «Поэмы экстаза». Скрябин играл своё новое оркестровое сочинение на фортепиано. Там, где ему не хватало рук, помогала Татьяна Фёдоровна Шлецер, его вторая жена. Потом будут замечания, обмен впечатлениями. До симфонической поэмы Скрябин выпустил поэму философическую, в стихах, и с тем же названием: «Поэма экстаза». Теперь он пытался объяснить свои идеи. От них веяло чем-то грандиозным и несбыточным. Римский-Корсаков слушал с пристрастием. Музыку Скрябина он всегда ценил, хотя и полагал, что композитор замечателен в очень ограниченном диапазоне переживаний. «Экстаз» ошеломлял своей дерзновенностью. Правда, казался Римскому несколько однообразным, но всё же Николай Андреевич не мог не признать: отдельные темы и эпизоды по-настоящему выразительны. А вот в идее потрясения миров с помощью музыки и синтеза искусств ему мерещилось уже нечто невообразимое. Скрябина он слушал внимательно, придирчиво задавал вопросы. Рахманинов молчал. Худощавый Корсаков высился за столом, смотрел на Скрябина поверх очков, с пытливостью. Александр Николаевич, небольшого роста, откинулся назад, говорил громко, внятно, хотя понимал, что бросает идеи в пустоту. Будущее произведение не просто соединит все искусства, но породит и новые:
— Вы будете жить всеми ощущениями: гармонией звуков, гармонией цветов, гармонией запахов?!
Корсаков подскочил:
— Нет, этого не понимаю, Александр Николаевич, как это гармония запахов?!
Когда прощались, Рахманинов заметил Татьяне Фёдоровне, что Саша, как ему кажется, идёт по ложному пути[143]. Его, как и остальных музыкантов, всего более поражала та непоколебимость, с какой Александр Николаевич отстаивал свои фантастические идеи. Сергей Васильевич запомнится Скрябину как добрый старинный товарищ, немногословный, но готовый весьма добродушно поспорить.