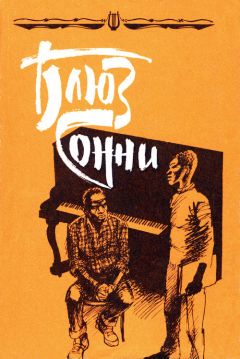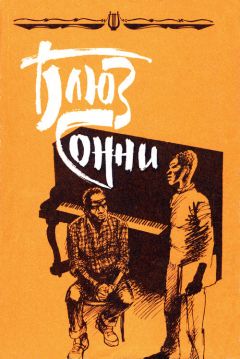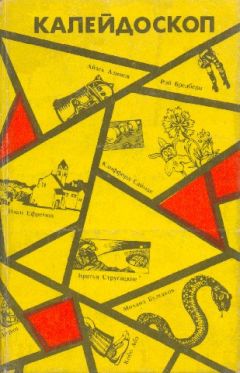Мой добрый отец мало разбирался в музыке, он был ученым; он воображал, что стоит мне подуть в красивую флейточку, и все пойдет на лад само собой. Мне не хотелось разочаровывать его, я только поблагодарил, спрятал флейту и попрощался.
Наша долина знакома мне до большой мельницы; за ней, значит, открывался новый мир, и он мне очень даже понравился. Налетавшаяся досыта пчела устроилась у меня на рукаве. Я уносил ее с собой, чтобы попозже, сделав первый привал, сразу отправить посла с весточкой моим родным.
Леса и луга были моими спутниками, река деловито бежала рядом, и мир мало чем отличался от родины. Деревья и цветы, пшеничные колосья и кусты орешника заговаривали со мной, я пел с ними вместе их песни, а они понимали меня, как меня понимали дома; но вот очнулась моя пчелка, поднялась ползком до моего плеча, облетела два раза вокруг меня, сладко напевая что-то своим низким голосом, а потом полетела прямиком в сторону родины.
И тут из леса вышла юная девушка с корзинкой в руке и широкополой шляпе, затеняющей лицо, на светловолосой голове.
— Бог в помощь, — сказал я ей. — Ты куда держишь путь?
— Несу жнецам обед, — объяснила она, поравнявшись со мной. — А ты куда собрался?
— Иду в мир, отец послал меня. Он говорит, что я должен играть для людей на флейте, но я еще не умею играть по-настоящему, надо учиться.
— Так, значит. Ну, а что ты, вообще-то, умеешь? Что-то ты да умеешь?
— Ничего особенного. Песни петь умею.
— Какие же песни?
— Всякие, разные, понимаешь, для утра и для вечера, для всех деревьев, зверья и цветов. Сейчас я мог бы, к примеру, спеть песенку о молоденькой девушке, которая вышла из леса и несет обед жнецам.
— Ты? Можешь? Так спой же!
— Да, но как тебя зовут?
— Бригитта.
И я запел песню о красивой Бригитте в соломенной шляпе, и пел о том, что у нее в корзинке, как на нее заглядываются цветы, как голубые ветры перепрыгивают ей навстречу через ограды усадеб, и все, что полагается.
Она слушала внимательно и сказала потом, что песня хорошая. А когда я сказал, что голоден, она приподняла крышку корзинки и достала кусок хлеба. Когда я, откусив от ломтя, браво зашагал вперед, она заметила с укором:
— Незачем есть на ходу. Все в свое время, по очереди.
И мы сели в траву, и я ел мой хлеб, и она, обхватив руками колени, наблюдала. Когда я доел хлеб, она спросила:
— Не хочешь спеть для меня еще что-нибудь?
— Хотеть-то хочу. Но о чем?
— О девушке, от которой сбежал ее любимый, о том, как она грустит.
— Нет, про это не могу. Я не знаю, как оно бывает, да и зачем грустить? Мой отец велел мне петь песни скромные и милые. Я спою тебе о кукушке или о бабочке.
— А о любви ты ничего не знаешь? — спросила она чуть погодя.
— О любви? Как же, знаю, ведь это самое прекрасное!
И я без промедления запел о солнечном луче, который любит красный цветок мака, как он играет с ним и как счастлив, и о зяблице, ждущей своего зяблика, — когда он появляется, она делает вид, будто испугалась и отлетает в сторону. И еще пел о девушке с карими глазами и юноше, пришедшем невесть откуда, спевшем песню и получившем в награду за это кусок хлеба; а теперь хлеба ему не нужно, он хочет получить поцелуй от девушки, хочет глядеть в ее карие глаза, и он будет петь об этом. Не переставая, пока она не закроет его рот своими губами.
Тут Бригитта перегнулась и сомкнула свои губы с моими, и закрыла глаза, а когда вновь открыла их, я увидел в приблизившихся ко мне коричнево-золотых звездах свое отражение и несколько белых луговых цветов.
— Мир прекрасен, — сказал я. — Отец был прав. Давай я помогу тебе нести корзину, чтобы ты вовремя успела к своим жнецам.
Я взял ее корзину, и мы пошли дальше, она шла шаг в шаг со мной и ее радость звучала в лад с моей, а ветер что-то тихо нашептывал нам своей прохладой со склона горы; никогда прогулки не приносили мне подобного удовольствия. Некоторое время я храбро распевал одну песенку за другой, но потом умолк — сколько же вокруг всего, о чем можно петь, как много рассказывали мне негромкие голоса долины и гор, травы, листьев и кустов, всего сущего!
И я невольно подумал: если я смогу понять и спеть все эти тысячи песен мира, о травах и цветах, о людях и облаках, и обо всем ином, о лесах лиственных и вечно-зеленых, и обо всех зверях, и еще вдобавок все песни дальних морей и гор, песни звезд и лун — если все это нашло бы во мне отзвук и я смог бы это спеть, я был бы просто Господом Богом, а каждая новая песня должна была бы взлетать звездой на небо.
Но пока я шел и думал обо всем этом, не произнося ни звука от охватившего меня удивления (ведь никогда прежде ничего подобного мне на ум не приходило), Бригитта вдруг остановилась и взялась за ручку корзины.
— Теперь мне нужно наверх, — сказала она. — Там, на поле, наши люди. А ты куда пойдешь? Со мной?
— Нет, я не могу пойти с тобой. Мне велено идти в мир. Большое тебе спасибо, Бригитта, за хлеб и за поцелуй. Я тебя не забуду.
Она приняла из моих рук корзину, и ее глаза еще раз обратились к моим, и губы ее слились с моими, и поцелуй ее был столь нежным и добрым, что мне от полноты счастья едва не стало грустно. Я торопливо воскликнул: «Прощай!» — и быстро зашагал вниз по дорожке.
Девушка неспешно поднималась в гору, а потом остановилась под низкими кронами буков опушки леса и поглядела вниз, мне вслед. И я помахал ей шляпой — она кивнула еще раз и тихо исчезла в тени буков, как видение.
Я же спокойно продолжил свой путь, погрузившись в свои мысли, пока дорога не сделала резкого поворота.
Я оказался перед мельницей, а невдалеке от мельницы на воде покачивалось суденышко, на палубе которого я увидел одинокого человека. Он, казалось, только меня и ждал, потому что когда я снял шляпу, поздоровался и перебрался к нему, суденышко тут же побежало вниз по реке. Я сидел посредине судна, а он — позади, у руля, и когда я спросил, куда мы держим путь, он поднял голову и внимательно посмотрел на меня затуманенными серыми глазами.
— Куда пожелаешь, — произнес он, понизив голос, — Вниз по реке, или в море, или к большим городам — выбирай. Здесь все принадлежит мне.
— Всё принадлежит тебе? Так ты король?
— Возможно, — ответил он. — А ты, как я посмотрю, поэт? Тогда спой мне песню о путях-дорогах!
Я собрался с духом — вид мужчины, седого и серьезного, внушал мне почтение и страх; суденышко наше быстро и бесшумно бежало по реке. Я запел о реке, несущей суда, отражающей солнце и вскипающей у берегов, где весело заканчивает свои странствия.
Лицо мужчины оставалось непроницаемым, и когда я закончил, он слабо, словно во сне, кивнул. И к превеликому моему удивлению запел сам, и песня его была тоже о реке и о странствиях ее вод, но эта песня была проще и мощнее моей, и звучала совсем иначе.
Река, которую воспевал он, срывалась с гор, как разрушитель, мрачная и дикая; скрипя зубами, она стирала мельницы на своем пути, мосты, переброшенные через нее, она ненавидела любое судно, которое несла не себе, и в волнах своих и длинных косах речных водорослей с улыбкой раскачивала белые тела утопленников.
Все это мне не понравилось, но прозвучало настолько таинственно и красиво, что я окончательно смешался и пристыженно умолк. Если верно то, о чем поет этот пожилой, осанистый и мудрый певец своим глуховатым голосом, то все мои песни, выходит, были всего лишь нелепостью и детской забавой. Тогда, выходит, мир по сути своей не добр и не светел, как сердце Божье, а темен и мрачен, зол и обманчив, и когда леса шумят своей листвой, это, значит, не от радости, а от муки?
Мы плыли дальше, и тени удлинились; всякий раз, когда я запевал песню, она звучала все менее светло, а голос мой сделался тише, и всякий раз незнакомец отвечал мне песней, делавшей мир еще загадочнее и опаснее, а меня это заставляло страдать и грустить.
Душа моя изнывала, я сожалел уже, что не остался на берегу, в гостях у цветов и моей красивой Бригитты, и чтобы утешиться вопреки все сгущавшимся сумеркам, я, провожая последние отсветы заходящего солнца, громко запел песню о Бригитте и ее поцелуях.
Но тут совсем стемнело, и я умолк, а человек у руля запел, и пел он тоже о любви и любовной страсти, о карих и голубых очах, об алых влажных губах, и как же прекрасно и захватывающе было то, что он страстно пел над почерневшими водами реки! — но в его песне и любовь была темной и опасной, она превратилась в смертоносную тайну, от которой люди теряли рассудок, шли по жизни на ощупь, страдали, бедствовали, этой любовью они мучили и убивали друг друга.
Я слушал его и уставал от вливавшегося в меня чувства горечи, чудилось, что я уже годы странствую сквозь одни страдания и печали. Я ощущал, как тихий, леденящий поток грусти и душевной тоски, исходящей от незнакомца, прокрадывается к моему сердцу.
— Выходит, не жизнь — самое высокое и прекрасное, — воскликнул я запальчиво, — но смерть! Тогда прошу тебя, о горестный король, спой мне песню о смерти!