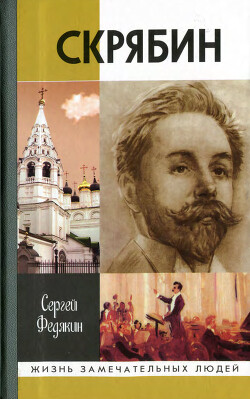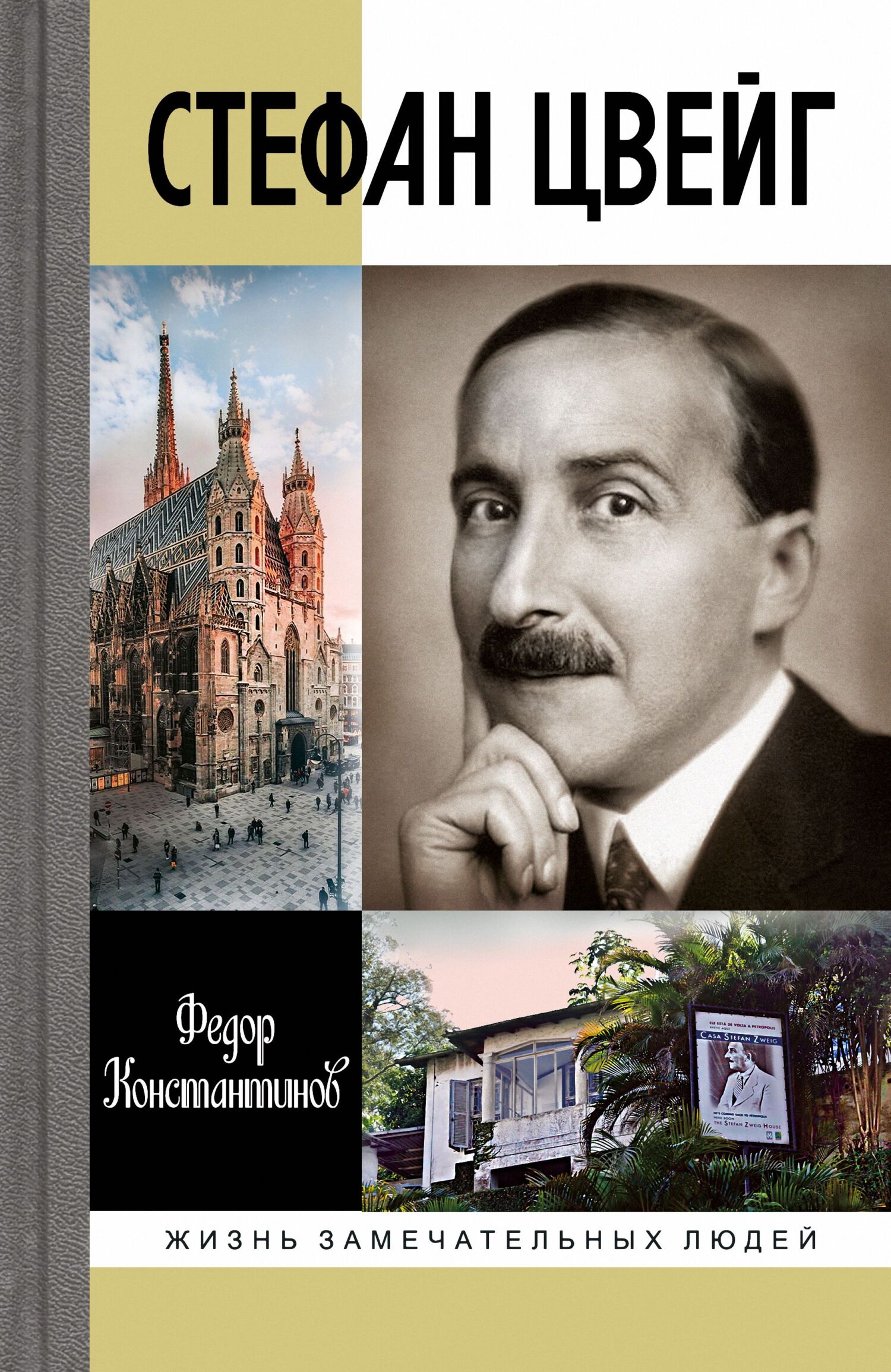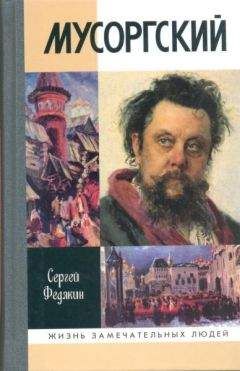Но среди первых впечатлений — не только тягостные. Были и забавные. Когда «Дурбас-зеленоус» — то есть полковник Торбеев — скомандовал: «Строиться!» (и шумная толпа мальчишек сбежалась и разобралась по росту), а затем: «Равняйся… смирно!» — в мертвой тишине все вдруг услышали:
— Ты слышишь, Саша?
— Слышу, Яша… А ты слышишь, Яша?
— Слышу, Саша.
«Весь строй, — вспоминал Лимонтов, — пришел в движение — команды «смирно» как не бывало. Торбеев, едва сдерживая улыбку, крикнул:
— Стать на места. Все слышали команду — «смирно».
Опять все замерли, а на левом фланге в наступившей тишине снова прозвенел шепот:
— Ты слышишь, Саша?
— Слышу, Яша… а ты слышишь, Яша?
— Слышу, Саша…
Опять все сбились с мест. Торбеев пошел к левому флангу:
— Кто здесь шептал?
Вопрос остался без ответа: «фискальство» у нас строго и жестоко преследовалось.
— Я что вам сказал? По команде «смирно» все должны замереть, стоять не шелохнувшись и молчать, как воды в рот. Кто шептал?
Все молчат. Но едва Торбеев двинулся с места, как снова зазвенел шепот:
— Ты слышишь, Саша?
— Слышу, Яша… а ты слышишь, Яша?
— Слышу, Саша…
Торбеев обернулся и долго не мог сказать ни слова, борясь с душившим его смехом. Наконец он, стараясь придать голосу строгость, проговорил:
— Вы это что же не слушаетесь? В карцер захотели?
И больше уже добрый старик не мог говорить, ибо Яша, глазами полными ужаса взглянув на него, снова повторил:
— Ты слышишь, Саша?
А в ответ зашептал Саша:
— Слышу, Яша… а ты слышишь, Яша?
— Слышу, Саша…»
Хохот не умолкал несколько минут. Строй маленьких кадетов трясся и корчился, «Дурбас» вытирал слезы. К общему облегчению все разрешилось без карцера и других наказаний. Полковник, отозвав близнецов, с улыбкой слушал про наказ матери, с таким усердием исполняемый послушными братьями: «Все, что ни услышишь, Яшенька, спроси Сашеньку — слышал ли он».
* * *
Скрябин входил в новую жизнь не без трудностей. «Культ кулака», «власть сильнейшего» могли и пугать, и отвращать, и мучить несбыточными мечтами. Скрябин, как и все новички, дивился силачам. Бравада тех, кому «все нипочем», и притягивала, и завораживала. Здоровяк Калайдович в свой стальной бицепс втыкал иголку. Скрябин сидел с напряженным лицом и не мог оторваться от этого зрелища, шепча Лимонтову: «Смотри, смотри, какой ужас!»
Другой силач, Гриша, ловкий, хорошо сложенный, мог в прыжке скрутить сальто-мортале. И восхищенный Саша глядел, как тот разбегается, отталкивается и — прежде чем приземлиться в яму с песком — переворачивается в воздухе. Сложенные ладони Скрябин сжимал коленками, приседал, следя за полетом Гриши, и, когда тот мягко опускался на ноги, — заливался восторженным смехом. Такими кульбитами, как и победами в мальчишеских стычках, он мог только восхищаться.
Каждый новичок проходил через драку. Без таких испытаний мальчишеский мир кадетского корпуса не мог существовать. Драка была не только «боевым крещением», но единственным способом выяснить «иерархию сил». Скрябин был лишен и этого: один лишь вид маленького, хрупкого кадетика с ласковыми карими глазами сразу превратил его в «последнего силача».
…Странные повороты судьбы. Мальчик, до того знавший лишь обожание, вдруг оказывается в ряду тех, кем пренебрегают. Привыкший быть первым и вступительными экзаменами подтвердивший свое первенство, в одно мгновение превратился в последнего. Его даже не посчитали нужным испытать. Фамилия «Скрябин», которую носил и дядя-воспитатель, могла защитить от кулаков, но не от презрения. Что пришлось ему пережить в дни этого «крушения»!
Но с тем же упорством, с каким он отдавался ранее своим увлечениям, неизменно добиваясь того, что было задумано, он начал выкарабкиваться из навязанной ему роли.
Начальная попытка была вполне в духе «кулачного права» — попытка нелепая, ненужная, никчемная. Попасть в «силачи» было не в его власти. Но стать хотя бы не последним…
Для поединка он выбрал одного из близнецов («Слышишь, Саша? — Слышу, Яша»), пошел в атаку — и тут же получил отпор. Братья набросились на него вдвоем и с такой яростью, что Скрябин был вынужден стушеваться.
Испытание, выпавшее ему в первые учебные месяцы, было не из легких. До десяти лет он стоял в центре внимания взрослых. Весь мир вращался вокруг него. И вдруг — разом все потерять?
Но и вторая попытка Скрябина «выйти в люди» была обречена. Он слишком был открыт душой, слишком доверчив. Это тетя с бабушкой его словами восхищались. Но у одноклассников рассказ о маленьком рояле, который он смастерил семилетним, рояле, на котором можно было даже играть, вызвал не только насмешки. «Последний силач» стал еще и «брехуном».
Один лишь Лимонтов почувствовал вдруг, что маленький Скрябин не лгун, не болтун, что он просто — чудной. И сам, любивший выпиливать лобзиком (мастерил гладенькие, симпатичные полочки и ажурные коробочки), завел со странным кареглазым кадетиком тихий разговор. Уже сама идея — сделать модель рояля — его восхитила своей неожиданностью. Скрябин объяснял, как он выпиливал раму, корпус, ножки, как после к раме крепил струны… Слово за слово — они стали друзьями. И Лимонтов уже посматривал на «последнего силача» то с удивлением, а то и с восхищением. Скрябин рассказывал обо всем — как все-таки много он прочитал! — и особенно часто о музыке. Лимонтов не без изумления начинал осознавать, что этот худенький фантазер, похоже, и вправду неплохо играет на рояле, и учиться в консерватории он, по всей видимости, действительно когда-нибудь будет. Скрябина к музыке Лимонтов слегка ревновал: он и сам был немножко музыкант, очень любил духовой оркестр. Но ощущал неясным, седьмым чувством, что здесь он «последнему силачу» уступает во всем: и в слухе, и в таланте, и в тонкости восприятия.
А для Скрябина Лимонтов стал на первое время настоящим спасением. С ним он не чувствовал себя «последним», напротив, он ощущал временами и очевидное свое превосходство, которое его товарищ и не думал подвергать сомнению. Судьба сама подталкивала к нужному выводу: только родные и близкие готовы встречать с радостью каждую твою выдумку и каждое твое движение. Другие могут признать тебя лишь там, где ты и впрямь их сильнее — в музыке. И за что бы ты ни взялся, — все это будет им интересно через твою игру и твои сочинения.
Только оторвавшись от родных стен, от тети и бабушки, Скрябин почувствовал, в чем его сила. Музыка все настойчивее, все неумолимее перемещалась в центр его жизни. Все прочее будет важно лишь настолько, насколько оно близко к музыке. Она же втянет в свою орбиту все мироздание. И жизнь, и природа, и любовь — все это будет частью музыки. Как частью музыки будет и полная тревог современность, и человеческая история, и дыхание космоса.
И скоро не только Лимонтов узнает, что есть область, в которой маленький Скрябин превосходит любого силача.
* * *
В судьбе человека случаются иногда события, роднящие эту частную жизнь с легендой. Биография людей знаменитых без маленьких «легенд» не обходится никогда. История о рояле, сделанном семилетним мальчиком, — из этого ряда. Здесь же стоит и первое публичное выступление Скрябина.
Все началось незатейливо и просто. Зимой к тете и бабушке приехал погостить отец Саши, привез с собой и вторую жену. Ольга Ильинична недурно играла на рояле и часто музицировала. Однажды Саша, явившись «на побывку», услышал, как зазвучала под ее пальцами «Песнь гондольера» Мендельсона, потом — «Гавот» Баха. Когда мачеха поднялась из-за рояля, он сам сел за инструмент и тут же сыграл — нота в ноту — и «Песнь», и «Гавот».
Николай Александрович, пораженный услышанным, не мог удержаться, дабы не рассказать обо всем брату Владимиру. Похоже, что скоро история стала известна и дочери директора корпуса, Анне Федоровне Альбедиль.
Тот концерт в Лефортове запомнился многим. Анна Федоровна была страстной меломанкой. И ей так хотелось, чтобы в конце концерта, после всех номеров, выступил и этот маленький удивительный пианист. Когда и директор, и сами кадеты, уже что-то прослышавшие, стали просить его сыграть что-нибудь, Скрябин легко согласился.