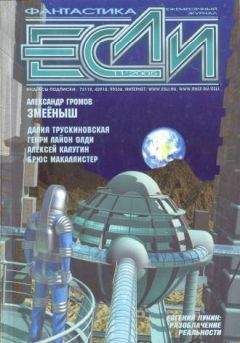Генри Лайон Олди
Восстань, Лазарь!
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
Апостол Павел, Послание к Коринфянам, гл. 13, 1–3.
— А пялиться на чужих людей некрасиво!..
— Кто сказал?
— Мама!
Кудрявый бутуз лет шести подумал, сунул палец в нос и уточнил с гордостью урожденного жадины:
— Моя мама!
— Ну раз мама… тогда да, конечно… Ты не в курсе: кто здесь Жора Мясник?
— Дядя Жорик вон там, на ящике!
Мужчина поправил очки: дорогие, французские, в золотой оправе от «Antoine Bourgeois». Антибликовый пластик зловеще сверкнул зеленью, как глаза хищника.
— Они все на ящиках…
— Дядя Жорик с бухлом!
— Они все с бухлом…
Очкарик был прав: трое грузчиков, коротающих обеденный перерыв во дворе, у черного хода в «Гастроном», сидели на дощатых ящиках и трепетно разливали вторую бутылку портвейна «Таврического» в пластиковые стаканы. Стаканы были пивные, поллитровые, с жеваными краями. От вина посуда отсвечивала густо-лиловой тьмой, напоминая гроздь персидской сирени.
— Дядя Жорик самый главный!
— Э-э… В каком смысле?
Бутуз аж подпрыгнул от такой вселенской тупости собеседника:
— На розливе сидит! Ну вы ваще…
— Ага, я ваще…
Соглашаясь, очкарик явно имел в виду что-то свое, непонятное чужому человеку. Так сознаются на приеме у венеролога в дурной болезни, подхваченной в командировке.
— На, держи, умница… Привет маме!
Он сунул бутузу пачку жевательной резинки. Мальчишка возликовал, сунул в рот горсть мятных подушечек и умчался играть в «банки». Еще за три метра от «стартовой» черты он запустил биту — обломок держака от швабры — в полет, и та лихо снесла пустую жестянку из-под ананасных ломтиков. Девчонки, оккупировавшие неподалеку раздолбанную карусель, брызнули прочь, спасаясь от снаряда. Старушки на лавочке заворчали с неодобрением, вспоминая, как в мезозойскую эру претерпели от таких же хулиганов. Бутузовы соратники хором завопили: кто от зависти, кто от восторга, кто просто так, за компанию.
А грузчиков пустые банки интересовали мало. Грузчики сказали тост: «Ну!..», выпили портвейн, отдали бутылки сборщику стеклотары, деду в потертом камуфляже, и принялись деловито закусывать хлебом со шпротами.
— Серый, жди здесь, — сказал очкарик шоферу, высунувшемуся из окна черного «лексуса». Шофер кивнул. У него было глуповатое и добродушное лицо человека, достигшего предела личных амбиций.
— Проходимец! — внятно сказала одна из старушек, ткнув спицей в сторону машины. Наверное, имела в виду ходовые достоинства джипа.
Очкарик пересек двор и остановился возле грузчиков.
— Добрый день! — сказал он. — Жора… э-э… Георгий? Извините, отчества не знаю…
Мордатый детина поднял голову.
— Ну, — сказал детина не пойми к чему.
Радушия в его голосе не ощущалось.
— Вот деньги, — очкарик достал из бумажника крупную купюру и протянул ее другому грузчику, молодому парню с рябыми щеками. — Сбегайте в магазин, возьмите водки. И закуски получше. А вы, — это уже адресовалось третьему, — прогуляйтесь за компанию. Чтоб правильно скупился. Хорошо?
В голосе очкарика сквозила определенная харизма.
Обращаться к грузчикам «на вы» не всякий умеет.
— Ну, — без большого одобрения, но и не возражая, повторил мордоворот Жора. — Палыч, сходи с Хлебчиком. Водки не надо, она вся паленая. Бери крепленое. И сала венгерского, с красным перцем. И черного хлеба буханку. Сдачу вернешь начальнику.
Оставшись наедине с очкариком, он уцепил шпротину за чахлый хвостик, заглотил целиком и в третий раз сообщил:
— Ну?
— Меня зовут Лазарь Петрович, — очкарик присел на освободившийся ящик, поддернув отутюженные брюки. — Меня к вам направил Глеб Артюхов. Ваш клиент. Вы помните Глеба?
— Ну, — кивнул Жора, не балуя гостя разнообразием. — Какие проблемы, Лазарь?
— Я жену не люблю.
Наверное, любой собеседник должен был удивиться такому ответу. Любой, но не Жора Мясник.
— Я тоже, — сказал он. — Хрена их любить, жен?
— Вы не понимаете. Я ее раньше любил. Очень. Мы со школы встречались. У нас двое детей. Мальчик и девочка, И жизнь вполне… Достойная. Я хорошо зарабатываю. И вот однажды смотрю: не люблю я ее, и все.
— Заведи бабу на стороне, — посоветовал Жора. — Или секретаршу, с ногами.
— Заводил.
— С ногами?
— С рогами. А толку?
— Ты ко мне зачем пришел? — мордоворот подозвал деда в камуфляже и отобрал дареную бутылку. Обнаружив на донышке жалкие остатки портвейна, он допил прямо из горлышка и вернул бутылку огорченному деду. — В любовники звать?
Очкарик оставался спокойным. Чувствовалось, что спокойствие дается ему с трудом.
— Глеб предупреждал, что вы станете хамить. И сказал, чтобы я не обращал внимания. У вас, значит, стиль такой. Нет, Жора, как любовник вы меня интересуете мало. Вы мне любовь к жене верните, я рассчитаюсь и уйду. Глеб сказал, вы можете.
— Что я могу? — хмыкнул Жора.
— Восстановить. Любовь, дружбу, уважение. Если какое-то чувство было и умерло, вы умеете его воскресить.
Мордатый детина расплылся в щербатой ухмылке.
— И ты поверил? Слышь, Лазарь, скажи честно: поверил?!
— Я поверил, — кивнул очкарик Лазарь.
— Ну и правильно сделал. Вера, она горами движет. Только на кой она тебе?
— Вера?
— Любовь.
— А это уже, извините, не ваше дело.
— Нет, Лазарь. Это не я к тебе, это ты ко мне пришел. Сам пришел, я тебя не звал. Теперь у нас одно дело, общее. Зачем тебе жену любить?
— В каком смысле: зачем?
— В прямом. Ну, разлюбил, бывает. Сам говоришь: двое детей у тебя, баба, секретарша, заработки. Живи с супругой, как все. Без любви. Небось раз со школы, надоела до чертиков?
— Нет. Просто разлюбил. Была любовь и сплыла. Равнодушие. Вы, наверное, не поймете: это как счет в банке. Или дом. Или привычные тапочки. Смотришь однажды, а счет пустой, дом кто-то перекупил… тапочки сносились. Я привык, Жора. Привык любить жену. Мне без этого не по себе. Словно обокрали.
— Тапочки, это да, — согласился Жора. — Тапочки я понимаю.
Он расстегнул рубашку, почесал волосатую грудь и внезапно спросил:
— Глеб — твой друг?
— Какой Глеб? А-а… ну да, конечно. Друг.
— Близкий?
— Близкий.
— Самый лучший? — настаивал Жора без видимой связи с предыдущим разговором. Видимо, Мяснику было очень важно узнать, что Глеб Артюхов, приславший к нему очкастого Лазаря с пропавшей любовью, находится с этим самым Лазарем в наитеснейших дружеских отношениях.
— Самый. Мы знакомы с детства. И работаем вместе: Глеб — мой комдир. Ну, коммерческий директор. А что?
— Ничего. Давай дальше про тапочки.
— Хватит про тапочки. У меня любовь умерла, — очкарик сказал это без малейшей патетики, скучно и обыденно. Так обсуждают деловой вопрос с малознакомым бизнес-партнером, которого хорошо отрекомендовали люди, заслуживающие доверия. — Глеб сказал, что вы можете поднять. Мертвую любовь — поднять. Беретесь или нет? Если нет, я пойду. Выпивка и закуска за мой счет.
— Твой счет… — буркнул Жора. — Любовь, говоришь, поднять? Сама, говоришь, не стоит?
Он долго хохотал. Потом взял веточку акации и написал на земле цифру.
Длинную.
— Вот твой счет. За подъем. Потянешь?
Очкарик с уважением посмотрел на цифру.
— Однако, у вас и тарифы… Потяну. Легко. Только, Жора, вы запомните на всякий случай: я — человек простой. Если что, я вернусь. И за каждую копейку спрошу.
— А ты меня не пугай. — Мордатый доел последнюю шпротину и лениво поднялся с ящика. — Я страх какой пугливый. Начну тебе любовь поднимать, а руки, понимаешь, дрожат… Она и не встанет. Ладно, пошли в подвал.
— Зачем в подвал? — не понял очкарик.
— Поднимать. Я обожаю, когда в подвале, возле холодильника. Там мясо на леднике хранится, мне от мяса сил прибывает.
— Ага, — догадался Лазарь, — поэтому вас Мясником и прозвали.
— Ни фига подобного. Фамилия у меня такая: Мясник. Георгий Мясник, по паспорту. Пошли, чего зря базлать! Скоро Палыч с Хлебчиком вернутся…
Уже у черного хода, ведущего в мясные подвалы «Гастронома», очкарик снова подал голос.
— А вы не боитесь, Жора, — спросил он, — что я вас обману? Вы мне любовь поднимете… воскресите, а я вам денег не дам? Уйду, и все?