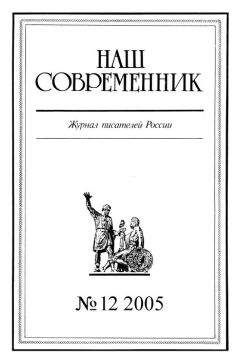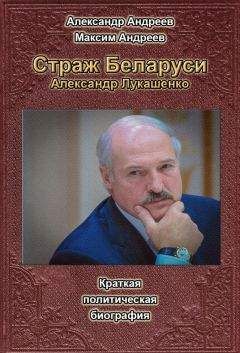Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. «Нам только в битвах выпадает жребий…» Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им поводов торжествовать. Всем этим порядочным людям. И приличным тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: «Все приличные люди отвернутся от Вас», — я ответил ему: «Дорогой А. П. Ну что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернётесь». Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощённого всяческими душевными заболеваниями.
О Господи! Вызов брошен. Мятеж1 состоялся. Со славой он закончится или без славы — нам знать не дано. Но одно я знаю точно: «всё миновало, молодость прошла». На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да тёмная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придётся коротать бок о бок со старыми калошами, енотами, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые краны.
Посылаю Вам свою статью2. Я отношусь к ней, как к черновику, потому что многие из мыслей (в частности, параллель «светлый стяг над нашими полками» и «я не предал белое знамя») я не додумал. Просто не хватило сил.
До встречи. Станислав. * * *
7 апреля 1978 г.
Стасик, я очень рада, что Вы написали про Блока, и очень хочу прочесть.
Но — я не могу писать сейчас письмо. Когда начала, то ещё как-то могла, а теперь — второй день уж — не могу. Лучше бы Вы позвонили… Дело в том, что меня совсем заели светлосильные еноты!3 (Я не хотела рассказывать Гале, когда видела её, п. ч. это — не женского плеча выносимость.) Видите ли, они совсем как бандиты ведут себя. Я ничего не могу доказать (как в детективе Чейза, который Галя дала мне прочесть, — «Свидетелей не будет»), п. ч. это всё — телефонные наглости и угрозы. Но они — дословно — таковы: если я не пойму, что… (этого не стоит писать в письме), то «буду задушена — не сплетней, так голодом, не безработицей, так сплетней!». Дословно.
Я обязательно должна Вам рассказать хотя бы об одном не-анонимном звонке (вчерашнем), но писать — не хочу.
(Я теперь совершенно верю в то, что Вы рассказывали о Стрешневой…)4
Как они ненавидят!!! (Внешние поводы: 1) формальная школа; 2) Вы.)
Я понимаю, что на всё это не следует обращать внимания. Но я не могу — в такие дни — ничего, ничего делать; вчера меня охватил такой ужас и отчаяние, что я даже Кожинову позвонила и сказала, что мне — страшно…
Мне действительно страшно. П. ч. они действительно могут всё.
Гнусный-прегнусный Дмитриев.
Фогельсон…
(Не хочу говорить все имена — сейчас.)
Уверяю Вас, это — невыносимо, т. е.: это — точнее — маловыносимо. (П. ч. я очень много вообще могу вынести!)
Ряшенцев.
Злотников.
(Я защищаю — всегда — строчку о Пентагоне1. Очень спокойно: мол, а почему — надо любить, в частности, и пентагонских?.. Ну, такая буря начинается всякий раз!..)
Эту строчку — каким-то образом — инкриминируют прямо мне…
Мне сейчас так худо, что слов нет. (Одно хорошо: ясно сказано, чем я буду «задушена». — «И не такие дарования стирались в порошок!» — Всё это не выходит из моих ушей.)
Не бойтесь, с Лангустой я не виделась ни разу. А в последние 2–3 недели, скорее даже — 3, и не звонит.
Во вторник, как ни звал Юра Смирнов (передавая приглашение и Лангусты), я не пошла на Юрино обсуждение на Лангустиных курсах. Сказала: фирма «Заря» придёт окна мыть, — не могу. Не могу с грязными окнами жить ни одного дня больше.
Но Лангустино пророчество: «Все приличные люди отвернутся от Вас!», — как видите, сбывается. Три недели уж «все приличные люди» ведут себя почти уголовно и не скрываются более, не маскируются…
(Видно, они надеются, что меня ещё можно запугать?)
Я не могу описать границ моего одиночества.
Приезжайте.
У меня такая тошнотворная смесь омерзения и печали — ну, именно: тошнит, в горле ком.
Вот какое письмо неинтересное! А Ваше было — хорошее …
Я очень рада, что Вы там столько написали всего. И главное — Блока…
Ваша Т. Глушкова. * * *
19 августа 1978 г.
Стасик,
я сегодня варю крыжовенное варенье (и доперевожу Нерис), п. ч. нет нервов, и вот я их закаляю.
Туфли я купила тоже поэтому, на самом деле: когда огорчаюсь, то надо или что-нибудь купить, или трудное варенье сварить.
А огорчил меня — больше, чем я тогда хотела говорить об этом, — Лавлинский: со своим гнусняком этим…
Баба он, а не донской казак, этот Лавлинский.
Статью свою я, в сущности, продумала — и придумала даже остроумие в ней разнообразное.
Однако не хочу я её писать, когда уваженья к себе не вижу!
Как воспитать Лавлинского?
Не могу я, чтоб меня редактировала эта гнусная «редакционная тайна», этот «доктор наук» плагиатских!
П. ч. я придумала такую теорию развития и остроумную диалектику, что мне жаль…
Теперь вот что:
поскольку все (мужчины) всегда Вам жалуются на меня и особенно — всякое приватное письмо норовят зачесть, то я думаю: вдруг и Лавлинский Вам нажалуется… Ну, так чтоб Вы знали, в чём дело.
А дело в том, что, не умея разговаривать по его домашнему телефону, в котором тараканы шуршат (как у Чехова), т. е. трещит он и грохочет, и не желая излавливать его в редакции снова (чтоб без этой гниды), — написала я ему, действительно, письмо. И вот Вам шлю копию — на случай гневного доноса. К-й очень может быть. Хотя письмо — примитивное и, по-моему, мягкое.
Вы эту копию не выбрасывайте, п. ч. не было у меня копирки более.
(Без копирки я пишу только Вам — в Москве, а всё прочее я пишу с копиркой!)
А, между прочим, если Вам вдруг будет очень скучно и захочется кому-нибудь письмо написать, и поскольку я думаю уехать 22-го или 23-го аж до 4 сентября, то мой тамошний адрес:
143632, Московская обл.,
Волоколамский р-н, Ярополец,
Турбаза МАИ, комната 30.
И вот — важно:
ни в коем разе не думайте, что Вы должны спешно читать мою рукопись1. Наоборот! Чем позже, тем лучше. У меня нет никакого спеху!
(И Вам спешить ни к чему: тьма страниц и тоска!)
[…Насколько я думаю, в этой рукописи (лапописи) что-то, м. б., присутствует примерно во 2-й половине (или в двух третях — от конца). Но даже самые большие мои почитатели (они, конечно, очень большие, но их зато очень мало!) полагают примерно так: редкое, мол, у меня стихотворенье бывает, которое существует внятно само по себе, а вообще ж что-то существует (якобы) только в потоке стишков, — тогда, мол, слышат они «ветер между ушами» (из ихних метафор!) и ещё что-то там слышат…
Иными словами, это можно назвать также графоманией.
Вот почему никакого спеху нет!
Ей-Богу! Правда.]
У Вашего Aп. Григорьева я уже нашла, и впрямь, одну нудность — для статьи (если она будет)…
Между прочим: ударив не в ту клавишу:, вместо.; предлагаю ввести знак препинанья:, Три когтя. Это очень полезный знак! В письмах надо будет всегда им пользоваться!
Ваша Т. Глушкова
Очень я жду, чтоб скорей к своим совам поехать.
Как мне плохо в Москве, слов нет!
(Ал. Стройлиха, наконец, явилась тогда и очень меня распечаловала. Она, правда, смешно познакомила меня с истеричным критиком Гусевым: ну, «Харибда традиции». А он ещё раз обиделся: говорит — мы, мол, знакомы. Оказалось, что нёс в коктебельском поезде мой чемодан… Но я ж не знала, кто это несёт, на лбу не написано! Он же думал, что бессмертный подвиг благородства (вепс есть вепс) совершал. Это было очень смешно.)
* * *
10 декабря 1978 г.
Дорогой Волк!
Пишу лапой. Выживу я, конечно, непременно — и жить буду долго. Так говорю я, вымирающий эвенк, и так думаю, п. ч. мало встречала я таких живучих вепсов.
Хочу домой.
(И даже — хочу работать.)
П. ч. очень ненавижу больницы.