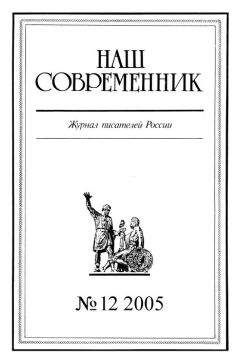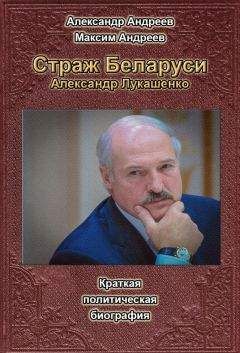На поиски лётчика (кто же тогда знал, что лётчиком окажется женщина?) была направлена группа бойцов-ополченцев истребительного батальона. Истребата, если сокращённо. Но, насколько мне известно, эта аббревиатура в военном русском языке не прижилась. Да и сами истребаты постепенно растворились в регулярных частях Красной Армии.
…Парашют раскрылся благополучно. Она приземлилась в поле, на краю леса. Справа протекала Молога (она изучала карту этого района). До линии фронта отсюда — рукой подать, километров, может, десяток. Только вот осколок в ноге усложняет задачу. Вроде бы умело обработала рану, остановила кровотечение — да всё равно голова кружится, слабость — от потери крови. Надо где-то спрятаться до утра, набраться сил, а потом лесочком — к своим! Она заметила в поле большой скирд сена и поползла к нему. Вроде бы никого вокруг…
Но один человечек, деревенский подпасок Васька, нашёл рано утром парашют, бросил своих коровушек и прибежал к военным.
— Фриц где-то недалеко… Там кровь свежая… — запыхавшись, торопился рассказать Васька. Тут же снарядили взвод — и вперёд!
Лётчика взяли сонным, с пистолетом в правой руке, с перевязанной раной на ноге.
— Баба! — изумлённо воскликнул боец истребата. — Ей-Богу, баба! Ну и чудо!
Отплакали родители убитых. А мы все сразу повзрослели, и что-то колючее, острое навсегда вонзилось в наши сердца. Наверное, это была ненависть к врагу. И к немецкой Frцhlein Герте, о которой вечером второго после бомбёжки дня рассказал нам отец.
— Привели её в милицию, посадили на стул, — говорил он, выдыхая дым от папиросы в печку с открытой вьюшкой. — Имя? Герта. Фамилия? Кранц. Красивая. Высокомерная. Бледная — от потери крови. Разговор короткий, и ей, и нам ясно: к стенке, и никак иначе. Военные сказали — на ваше усмотрение, товарищи. Только попытайтесь выяснить, что же её заставило убивать детей? С этого вопроса мы и начали допрос. И что же она, зараза? Сверкнула зенками, как ножом по глазам ударила — и отвечает отрывисто: «Es war meine persцnliche Initiative» (это была моя личная инициатива). Представляете, «persцnlich», стерва, персонально, значит, решила детишек убивать! Ну, чего тут было с ней рассусоливать?
Когда переводчик перевёл ей на немецком наш приговор, она презрительно ухмыльнулась и сказала: «Другого я и не ожидала. Я счастлива умереть за свой Faterland и жалею только об одном — что мало убила маленьких русских поросят!»
Отец судорожно вдохнул дым из папиросы, закашлялся надолго, а потом закончил свой рассказ:
— Фанатичная, сволота! Её, оказывается, Геринг самому фюреру показывал как будущую героиню нации.
— Ну, а что дальше? — нетерпеливо и со страхом спросил я.
— Ну что за такое может быть, сынок? Единственное — не был я свидетелем казни. Не гражданское это дело…
Герта убила нашу соседку, первоклассницу Верочку Комиссарову, весёлую девочку с двумя огромными розовыми бантами на косичках. Она убила Геньку Скачкова — друга моего довоенного детства, смешливого, безобидного мальчишку. Его нашли в канаве рядом с Верочкой ничком в траве. Она убила не только их самих — но и детей их, и внуков.
…А отец не захотел — или не смог? — присутствовать при расстреле, хотя ему и предоставили такую возможность. Не захотел или не смог? Я никогда об этом не узнаю…
НОВОГОДНЯЯ СОСНА
Дважды в жизни довелось мне встречать Новый год не под ёлкой: один раз — в детстве под сосной, другой — через много-много лет под пальмами Гвинеи в Африке. Так причудливо иногда прядёт свою пряжу судьба человеческая.
Стылым декабрьским утром 1941 года — за окном ещё хоть глаз выколи — отец, уходя на работу, заявил:
— Мотя! Ребята! Ни в какую эвакуацию вы не едете.
— А как же… — мама растерянно кивнула на рюкзаки и мешки, толпившиеся в прихожей.
— А вот так! Мотя, ты остаёшься в городе, а ребята с бабушкой — в деревню, в Высочёк. До особого распоряжения.
Сказал — как отрезал. Дверь громко хлопнула. Мама почему-то заплакала. Сёстры оторопело молчали…
Один только я знал, отчего вдруг случился такой резкий поворот в нашей судьбе.
Мотя — это моя мама. Сколько помню, она не любила это «деревенское» имя, коим её наградили родители. Они умерли давным-давно, когда мама сама ещё была маленькой. Задолго до революции. Бабушка Антонина заболела крупозным воспалением лёгких — да так и не встала на ноги. А дедушка Димитрий, высокий, красивый, густая копна тёмных волос (так нам мама рассказывала), после смерти своей Тонюшки совсем сник, ежевечерне уходил за околицу и до самой до теми молча глядел в небо… Так и умер однажды, где-то через год после своей любимой, осиротил пятерых.
— От чего же он умер? — спросил я однажды, повзрослевши, у матери. Она глянула на меня своими чёрными, как черешневые ягоды, глазами и сказала коротко, на выдохе:
— От тоски, сынок, от тоски. — И ничего больше не произнесла…
После смерти старшего Мишина собрался деревенский «мир» — решать, что делать с пятью сиротками. Долго толковали, прикидывали — и только одно выходило: в приют. Но тут решительно воспротивился дед Николай (это, значит, мой прадедушка):
— Лебеду жрать буду, а робятишек в приют не отдам!
«Мир» повздыхал, посочувствовал — шутка ли, пятеро по лавкам! — но прадед мой был непреклонен: — В приют не отдам!
Часто рассказывала мама, как росли они, малым-мала меньше, на хлебе, воде и луке, да на лесных дарах, а приютского сиротства избежали благодаря деду и молчаливо-послушной, работящей бабушке.
Потом, через целую жизнь, уже горожанкой в областном центре, она вдруг решительно заявила: «Нету больше Матрёны. Будет теперь Мария Дмитревна».
Девчонки смеялись, я пытался урезонить маму, но всё было напрасно. «И на могиле напишите — Мария! Христом-Богом вас прошу!» Когда пришёл её смертный черёд, мы, не сговариваясь, решили: напишем «Гусева М. Д.» Так и сделали…
…Той ночью я проснулся от тихого скрипа дверного ключа. Дверь в спальню оказалась приоткрыта, и любопытство тут же победило сон.
Я тихонько подошёл к дверной щёлочке, выглянул и замер: вместе с отцом пришёл какой-то военный. Совсем лысый. Он как раз в этот момент поправлял ремень на гимнастёрке. Воротник с большими «шпалами». «Генерал!» — догадался я и застыл у двери с босыми ногами на холодном полу.
— Ну что, Иван Степанович, примем с устатку по сто грамм? — тихо сказал отец.
— Согласен, Ильич, — ответил лысый военный. — Надо хоть часочка три поспать покрепче. До утра-то рукой подать.
— С закуской, честно говоря, не густо, — признался отец, выставляя на стол большущую банку сгущёнки и полбуханки чёрного хлеба.
— Царская закусь! — не согласился генерал. — На войне часто приходится одной мануфактуркой закусывать! — И он для убедительности провёл по губам рукавом гимнастёрки.
Отец рассмеялся и тут же начал вскрывать ножом консервную банку. (У меня слюнки потекли — это же действительно царская еда!) Они налили по гранёному стакану, густо намазали сгущёнку на хлеб, чокнулись и выпили — «за победу!»
Иван Степанович, как вскорости я узнал, был командующим Калининским фронтом. К концу войны — великий сталинский маршал Конев.
«Ильич» — это мой отец, Михаил — крестьянский сын, восьми лет от роду потерявший отца — моего деда. В лютую морозную ночь зимой 1912 года дедушка Илья ночью возвращался домой из города с извозу. Было такое зимнее занятие у бедных крестьян — подряжаться возить в городах разные грузы. То лес, то муку, то продукты со складов в магазины. Получали кое-какие деньжонки — хозяйству подмога. У деда, видно, во сне распахнулся тулуп, а мороз был под 50°… В общем, когда кобыла Машка подъехала к дому и заржала громко, у бабушки моей, Натальи Кирилловны, сразу сердце упало, беду почуяло. Подошла на слабеющих ногах к телеге, а он там неживой…
Так и не вышла больше замуж, «ростила» двух мальчишек. Петька дерево любил, бондарем да плотником стал знатным — на всю округу. А Михаила, общительного паренька, потянуло на людях быть. Он тоже всё умел по крестьянской части, однако в начале 30-х годов его присмотрели и «выдвинули» на работу в сельпо. Потом вступил в партию. Так обозначился на долгие годы его путь сельского райкомщика.
Они чокнулись и выпили — «за победу»!
— Чего это у тебя мешков в прихожей целый ворох? — спросил Конев. — Никак своих в эвакуацию наладил?
— Так точно, — по-военному ответил отец. — Хочу прямо вас спросить: пора или ещё можно погодить? Детишки малые, Иван Степанович, — смущённо продолжил отец. — Страшно отпускать их с бабами в дальнюю дорогу: бомбёжки, паника, поезда под откос летят…