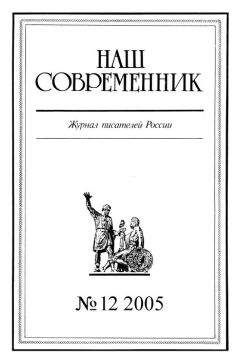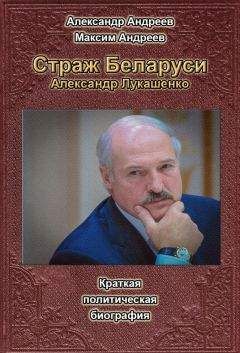Потом мы, пересилив ужас, долго сносили вывернутые плугом мины на край участка. Рядок за рядком, будто поленницу дров складывали. Сохранил нас Бог, не произошло детонации, а то бы рванул наш «склад», и унесло бы меня в рай пресветлый, поскольку был я тогда двенадцатилетним безгрешным мальчишкой.
…А с гранатой Лёвиной произошло вот что.
Лев Кударенко — жилистый, крепкий паренёк, мой лучший школьный друг, был старше меня на три года. Они же, белорусы, три года были под немцем в оккупации и в школу, ясное дело, не ходили. Был он у нас «старшой», хотя и не вышел ростом. Многие его погодки после седьмого класса разъехались из Толочина по техникумам или ремеслухам, но Лёва, упрямо продираясь сквозь частокол «троек», шёл на аттестат зрелости — он однажды и навсегда «заболел небом» и тянул десятилетку, чтобы потом поступить в авиационное училище. И поступил, и стал летать — высоко, далеко и долго-долго — на стратегических бомбардировщиках. Тут ему, кажется, помог «гагаринский» росток (160 см). Мы учились, работали, мужали — а он нас охранял, вот какое дело. Чистое небо над Россией более полувека — это и Лёвчика моего заслуга. Конечно, он уже давно на пенсии. Наверное, по праву испытывает чувство исполненного долга. Точно не знаю — раскидала нас судьба по российско-белорусским просторам на целую жизнь. Знаю только, что вернулся он в родную Беларусь и там пенсионерствует. Так не хочется говорить о нём в прошедшем времени…
Мама уважительно звала его «Лев Иваныч». Обстоятельный был парнишка! На всю жизнь запомнилось, как однажды угощал меня кулешом — густым белорусским супом.
— Да не хочу, Лёва, сытый я, недавно из-за стола! — взмолился я. Друг, однако, был неумолим.
— Ешь, братка, ешь — усё одно свинням выливаць! Ешь, кому сказано!
— Во что у меня есть! — Лев на всякий случай оглянулся и вытащил из кармана пальто «колотушку» — немецкую противопехотную гранату. Знакомое оружие! Длинная деревянная ручка, внизу металлический колпачок — ну совсем такой же, как теперь на бутылках с заморским пойлом. Колпачок отвинчивается — и тебе прямо в руку падает большая полосатая фарфоровая пуговица на шнурке. Теперь только ухвати её между пальцев, дёрни шнурок книзу — и не зевай, бросай как можно дальше!
Не зевай — это железно. Лёшка Савик зевнул, было дело у реки, шнурок дёрнул, считать начал: раз, два, три (это у нас шик был такой — чтобы рванула, не долетев до земли), потом его кто-то окликнул, а он голову повернул: — Га? — чего, значит… Когда дым рассеялся, грохот за реку ушёл, мы глаза открыли и видим: Лёшка стоит, как и стоял, только руки у него нету — оторвало…
Итак, мы помчались на лыжах в лес кидать «колотушку». Мне с Витькой приказано было спрятаться за толстые ёлки. А сам Лёва ловко выдернул левой рукой «пуговицу», кинул гранату в густой невысокий ельничек и рухнул в сугроб. Сердце привычно замерло… А взрыва нет! Минута, другая, пятая… Смачно выругавшись (он ведь уже большой был, старшой, а я ещё не умел плохие слова выговаривать), Лев стал на лыжи и двинулся к ельнику — гранату искать.
— Не сработала, зараза, видно, запал в неисправности, — предположил Витька.
Витька Нарчук — тоже мой школьный друг, сын командира партизанского отряда, погибшего в 1944-м в боях с немецкими карателями. После седьмого класса уехал в Минск, поступил в техникум, до самой до пенсии работал на автозаводе. Оказался очень женолюбивым. Точно известно, что было у него три жены, и всякий раз при редких встречах с ним в Москве слышал я: «Валентина необыкновенно красива, умна, добра и приветлива!» — и глаза его подёргивались туманной поволокой. Потом такими же красивыми, умными и добрыми оказывались Наташа, за нею Стася… И было у него от трёх жён две дочери. Моя мама позже неодобрительно называла его «дамский угодник».
Между тем Лёва, нагнувшись, шарил рукой в снегу там, куда попала граната. Сорвал варежку, пошуровал голой рукой:
— Есть! Нашёл! Держите! — он радостно потряс «колотушкой» и бросил её в нашу сторону.
Мы только и успели прижаться к своим ёлкам, как она булькнула в снег — метрах, наверное, в пяти от нас, совсем близко. В ушах глухая, тугая тишина. На сердце — плотное одеяло страха.
Взрыва опять не было.
— Ну что я говорил? Брак фрицевский. Может, наши подпольщики тогда на их заводе постарались? Пойду, брошу к чёрту последний раз. Третьего не миновать!
Лёва засмеялся и подъехал к запримеченной луночке на поверхности сугроба — туда нырнула «колотушка». Разгрёб снег, достал её и опять кинул в ельник.
…Взрыв оглушил нас, уже расслабившихся, почти освободившихся от противного, мокрого страха. Прошла над головами звуковая волна — и всё опять стихло. И опять ярко светило солнце, обещая жизнь, интересную и долгую…
Не раз рассказывал я потом эту почти невероятную историю людям бывалым, друзьям-фронтовикам в университете, кадровым военным в командировках. Меня вежливо выслушивали, но всякий раз замечал я в глазах искорки снисходительного недоверия: ладно, мол, заливай, складно выходит, да только так не могло быть.
Но ведь — было!
ЗОРЬКА
…Вы знаете, что такое корова для многодетной семьи в первые послевоенные годы? Мало кто помнит — да скоро и некому будет помнить: средняя продолжительность жизни всё сокращается, а расстояние до тех лет неумолимо возрастает…
Виктор Астафьев пропел оду русскому огороду — хвала ему! Жаль, не успел воспеть русскую корову-кормилицу, спасительницу деток малых, голодухой до костей выжатых, обречённых на болезни и гибель — если бы не кружка пенного парного молока, надоенного матерью или бабушкой ранним утром. Звонко бьют в стенки ведра тёплые струйки, Зорька шумно вздыхает и даже взмыкивает, а мы ещё сладко спим, и снится нам кусок пахучего и мягкого чёрного хлеба вприкуску с молочком. Что за вкуснятина — не передать словами!
Зорька — это наша корова, наш «молкомбинат», вырабатывающий ежедневно по полтора ведра белой жизненной силы. А всего и делов-то — выгоняй её ранним утром, по росе и не разогретому ещё солнышку, за ворота. А там уже пастух дядя Митя устрашающе щёлкает кнутом и нарочито грубым голосом сбивает стадо в плотную артель и гонит за пределы посёлка — на окраину леса.
Пастуху нужен подпасок — одному трудно сладить: корова животное вроде спокойное по природе, но, как и среди людей, попадаются строптивицы, нетерплячки, готовые при первом же укусе овода задирать хвост (он становится тугим и похожим на кривую палку) и мчаться куда подальше. Измучаешься, истревожишься весь, пока найдёшь беглянку. Потому без подпаска никак нельзя!
Каждое лето из первых послевоенных быстро бегущих годов я, «секретарский» сынок, превращался из школьника-отличника в подпаска, дяди Митиного помощника. Чудом сохранилось в памяти слуха тягучее, басовитое мычание стада, бредущего вечером по пыльной дороге, грозные вскрики одноногого дяди Мити — вместо левой ноги деревянный протез — и шуршание коровьих копыт по пыльной дороге. В памяти зрения живут и будут жить до самого смертного часа пушистые белые облака в небе, закатное золотое солнышко и тёмная, густая зелень придорожных тополей.
А в памяти страха таится тот ужасно невезучий день, когда коровы, словно скаженные, разбегались по лесной опушке, предполагая спастись в кустах от всепроникающих слепней, плотоядно жужжащих над бедными коровёнками. К вечеру, вконец измотанные беготнёй за очумевшими от слепнёвых укусов бурёнками, мы кое-как сбили стадо в кучу, но тут-то и выяснилось страшное: пропала наша Зорька, доселе самое спокойное и терпеливое создание. Как же так не усмотрели, не обнаружили пропажу до самого до вечера? Что теперь будет?
Пропадая от горя, безутешно плача (что будет? что будет теперь?), охрип от крика: «Зорька, Зорька!» — а её не было нигде, будто сквозь землю провалилась. Может, вон там, в приречном кустарнике? Да нет, было бы видно, не иголка в сене… Обессиленный, я присел на землю, и до последнего взблеска солнца не было конца ручьям слёз из моих близоруких глаз… Страшно было не наказание (оно заслужено, и точка) — то был страх за судьбу семьи, моих сестрёнок: как жить без коровы?
Мама и так плачет — от зарплаты отец приносит домой жалкие крохи. Бесконечные займы всё высасывают, а никуда от этого не денешься: первый секретарь первый во всём, значит, и в подписке на займы тоже. А зарплата — смех сквозь слёзы! Райуполномоченный МГБ, молоденький старший лейтенант, холостяк, получает в два раза больше моего отца. И за что ему такие деньги? Шпионов в Толочине не обнаруживалось — восток всё-таки, до Смоленщины недалече. Значит, отрабатывай тем, что будешь строчить доносы на районное начальство. Было однажды, признался старлей отцу, чуть не плача: «Я, Михаил Ильич, начальству доложил, что маманя Ваша богу молится, а Вы мер не принимаете. Простите меня, но ведь работа такая. Погоны обязывают…».