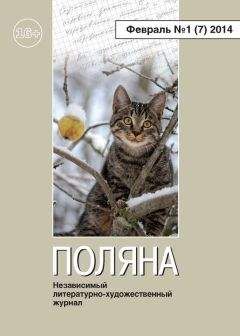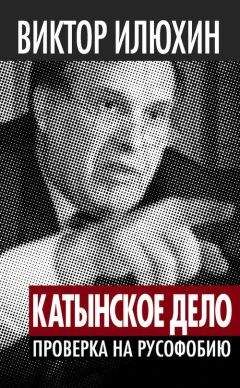— Я заправлюсь?
— Конечно, — сказал Роберт.
На заправке шофер вышел. Роберт посмотрел на меня, взял меня за руку:
— Ты очень хороший человек, Дуся. Ты сама не знаешь, какой ты хороший человек. Редкий человек.
Я видела, что глаза у него влажные. Он медленно поднес мою руку, левую, к губам и поцеловал ее. Косточку безымянного пальца. Зажал косточку между горячими губами и несколько секунд не отпускал. Потом посмотрел мне в глаза и улыбнулся.
— Спасибо, — прошептала я и заплакала.
Больше никто и никогда не целовал мне руки.
(Продолжение следует.)
Аллея тёмная густая,
Вдруг белый ствол мелькает в ней —
Кора с платана облетает,
Как с древа памяти моей.
Бесшумно под ноги ложится
Подобно прошлому она,
И живы там события, лица,
Слова, улыбки, имена.
Недаром время превращает
Всё, что доверило годам,
И неизменно возвращает
Побегам новым и корням.
Чтоб ничего не пропадало,
И копится за слоем слой,
Чтоб никогда не увядала
Аллея памяти живой.
«Снимки в бархате альбома…»
Снимки в бархате альбома…
Хоть себя бы тут узнать!
В год войны рождённый… дома…
Голый… в сеточке кровать…
На коне, а вот в матроске,
Бескозырка, якоря,
На костюмчике полоски,
Ворот — синие моря…
Строй солдат… отец в пилотке,
И ни ромбов нет, ни шпал…
Как без листьев в день короткий
Лес осенний — весь опал…
Мать стоит. На ней ушанка,
Ватник, вытертый до швов,
И хибарка полустанка
Средь заброшенных снегов.
Жизнь, которой я не знаю,
Но приходит со страниц,
Чёрно-бело зазывая
В толчею застывших лиц.
В суете эвакуаций
И разбомбленных дорог
Как сумел он к нам добраться,
Бархат платья, как сберёг?!
На перронах не растоптан,
Не украден со стола,
На растопку не разодран
Ради капельки тепла…
Голос ФЭДа или Лейки,
Глубина ушедших душ…
К нам, как путь узкоколейки,
Сквозь любую топь и глушь.
Сколько лиц я в нём не знаю,
Как же жил я, не спросив,
Кто такой и кто такая
Смотрят прямо в объектив?!
И никто не даст ответа!
Больше некого спросить!
Что теперь бумага эта
Будет в памяти носить?
Жизнь, кого ты пощадила?
Лики есть, а нет имён.
Будто братская могила
Старый в бархате альбом…
«Век равнодушен был и лжив…»
Век равнодушен был и лжив,
А мы ему верны.
Отец гордился, что он жив,
Протопав две войны.
Других давно на свете нет,
В том нет его вины.
И вот, гордился он, что жив,
Протопав две войны.
Не генерал — простой солдат.
Своей судьбе назло,
Конечно, был тому он рад,
Что в жизни повезло.
Не выставлял своих наград
Он дома за стекло,
Ран не считал, а был он рад,
Что в жизни повезло.
И кто его бы ни просил,
Войну не вспоминал,
Он память всех в себе носил
И жил, хоть воевал.
Он громких слов не говорил,
И слёз не проливал,
А изо всех крепился сил,
Чтоб жить, хоть воевал.
Тучи столетья
всё ниже над нами,
Душат вулканы,
топят цунами,
Зимы
по стуже рыдают взахлёб,
И репетируют ливни потоп.
Телу земли
не дают передышки,
Душу терзают:
ни дна, ни покрышки!
И опаляют
дыханием тьмы
Старые беды новой чумы.
Как ты наивна,
планета седая,
Ждёшь
на ромашке столетий гадая:
Выжечь — не выжечь,
топить — не топить,
Выжить — не выжить…
убить — не убить?!
«Невозвратимо день проскочит…»
Невозвратимо день проскочит —
Ложится на судьбы весы,
Приходит ночь и снова точит
Тупое лезвие косы.
Она подобна полустанку,
И на её запасный путь
Луна готова спозаранку,
Не дослужив свой срок, свернуть.
Тогда бездонные секреты
Выходят из забвенья лет,
В прозрачном сумраке планеты
Открыто зажигают свет.
Сердечных снов неразбериха
Объемлет мирозданья вид —
И мимо буднично и тихо,
Как спутник, истина летит.
Она вошла в класс с математичкой, Славка быстро оценил обстановку, пересел на середину парты, широко разложил руки.
— Это Нина Новикова, она будет учиться в вашем классе, — сказала учительница, после чего семиклассники услышали еще один, не требующий доказательства постулат. — Сюда садись, с Торбовым.
— Здесь же Васька сидит! Он болеет, завтра придет! — крикнул Славка, но математичка уже выискивала жертвы пифагоровой теоремы.
— Двинься, развалился, как боров! — голос у новенькой был резким, упрямым.
А сама она была, как боров: здоровая, бестолковая, деревенская. С головы до ног — деревенская. И липла к Славке, как банный лист: через каждые две минуты бац локтем: «Почему это так? А как эту задачку решить?»
Приходилось объяснять, рассматривая жирные буквы в ее тетради и внюхиваясь в чистый запах тяжелой, деревенской русой косы.
На первой же переменке Нинка осадила Витьку Косминова, который любил вставать всем на пути:
— Ну, чо встал, как хряк?
— Деловая, что ль? — Витька воткнул кулаки в бока.
— Ща двину по калгану, узнаешь! — грозно сверкнули огромные глаза, свернулись в злые жгутики губы: противник застыл от неожиданности.
На следующий день Нинка пришла с начесом. Русая ее голова словно одета была в зыбкую пышную шапку, из которой топорщилась старательно вспушенная челка. Одноклассники не заметили деревенский привесочный экстракласс, вспоминая, видимо, калган Косминова, но Нинка сама подошла к девчонкам, достала из портфеля длинную, туго заплетенную косу и похвалилась:
— Во, девки, какая была!
Коса, которая вчера еще уверенно лежала на ее спине, сейчас упругим затравленным зверьком переходила из рук в руки. Девчонки вздыхали:
— Тяжелая! С первого класса, наверное, растила.
— Еще чего! Это — вторая.
Никто ни слова не сказал о начесе и подщипанных бровях. Это Нинку не огорчило. Она убрала косу, села за парту и бросила, как бы между делом:
— Дай алгебру списать.
Училась Нинка на круглые тройки, во второй четверти чуть не схлопотала двойку по пению — отказалась петь у доски «Бухенвальдский набат». В третьей ей бы и по рисованию пару влепили — уматывала она с рисования почти всегда. Но на последнем уроке художник заловил ее в коридоре и привел в класс.
Она села за парту, надула губы:
— Дай карандаш и бумагу. Малевать буду.
Художник тем временем придвинул к стене стол, на него поставил стул и спросил:
— Кто хочет позировать?
— Я! — Нинка вышла к доске, ловко запрыгнула на стол и села, как на собственный трон — хозяйкой.
Учитель поправил ей спину, голову, отошел к «Камчатке» и сказал, прищуриваясь:
— Что ж, приступайте. И помните, о чем мы говорили на последних уроках.
Славка злился — рисуй еще эту бомбу! А бомба сияла. Ей хорошо было на стуле.
Но — странно — чем больше Славка смотрел на Новикову, тем меньше бомбовидных линий находил в ней. Голова, например, у Нинки, даже с начесом, была гораздо меньше, чем у Таньки Орловой, которая с прилизанными волосами напоминала головастика. Уши — тоже не локаторы какие-нибудь. Подбородок острый — не оковалком. И щеки у Нинки не дутые, как шары. И, между прочим, ямочки на щеках лучше, чем у Наташки Стешкиной — веселее.
Славка честно пытался срисовать Нинку, но не получалось. А тут еще натурщица заелозила: