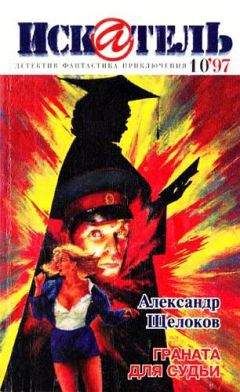Лицо у прапорщика Тишкова круглое, насыщенное свекольными цветами. Гуще всего краска легла на щеки и нос, мясистый, рыхлый. Из-под припухших век с белыми ресницами настороженно, как мыши из норки, поглядывали хитрые быстрые глаза.
— Справок не даем.
Прапорщик немногословен, строг, власть свою ценит и задарма не перегнется.
Ручкин со вздохом сожаления раскрыл портфель. Сунул руку внутрь, извлек на свет бутылку водки «Абсолют». Посмотрел на нее жадным взглядом, протянул Булкину.
— Надо же, Коля, придется пить из горла. Тутошний командир строгий, на тару скуповат.
Прапорщик чуть не задохнулся от разочарования: надо же — какого маху он дал! Надо же так лажануться! Приличных мужиков принял за фраеров, которые добиваются поблажки сынкам.
Теперь закосить от армейской службы стало общим правилом. А ведь какой шанс был поправить здоровье. Ну, тупая башка! И но всем опять же виноваты проклятые бабы. Только они! Всю ночь перед дежурством Тишков прокантовался у посудомойки Любки Варюхиной. Мужик он в самом соку, сила по жилам бродит, а жена умотала в деревню к теще, теперь что без нее мужику помирать от большого хотения?
А Варюхииа — подарок не каждому. Мясистая, до веселья охочая. Осушить бутылочку, потискаться, покататься на простынях — готова за милую душу. Потому все было с ней по полной программе. Усидели кило водочки на двоих. Потом спортивная гребля. Три заплыва на время: кто кого пересилит. Любка, сука, здоровая. Сколько сил оттянула — подумать только…
— Мужики… — Голос Тишкова уже не командный, а чисто апостольский — благость и примирение в каждом звуке. — Вы того, не в обиду. Не понял сразу. Думал, проверка какая. На вшивость… — Прапорщик уже шутил. — Сами знаете: голова — во! — Прапорщик двумя руками разметил огромную сферу вокруг и без того большой фуражки. — И трещит, как кирпич.
По цвету лица, по заплывшим мышиным глазкам определить причину, вызвавшую расширение головы и превращения ее в кирпич, труда не составило.
— Какая обида! — голос Ручкина тек ласковой освежающей струей, обещая служивому облегчение житейских страданий.
— Я сейчас…
Тишков метнулся в проходную и тут же выскочил оттуда с тремя алюминиевыми кружками в руках.
— Ребята, во, держите…
Ручкин сразу оценил изменение в обращении. «Мужики» с которого прапорщик начал — это тоже по-свойски, но в то же время достаточно отчужденно: хоть и одно племя, но каждый сам по себе, на своей ступеньке. «Ребята» — уже почти кореша, свои в доску: с ними разливаем из одного пузыря на троих, с ними пьем — душа в душу.
Бутылка, возбуждая и без того окаянную жажду, смачно булькала. Потом они сдвинули кружки. Алюминий глухо звякнул. И снова забулькало — на этот раз жидкость перетекала из тары в глотки.
Тишков выпил и какое-то время стоял, обалдело прижмурив глаза: вот, зараза! И кто ее такую придуман ублажать христианские души?! Надо же было так умно соединить в одном продукте небесную благодать и палящий жар пекла, слить в одну каплю и рай и ад!
— Может, еще? — Ручкин спросил Булкина, будто путник, искавший нужную улицу в незнакомом городе. — Как ты?
Тишков мгновенно открыл глаза. Они у него заметно расширились и заблестели.
— Ребята! Мы чо стоим? У меня тут есть где присесть. В конце-концов, не бездомные… Вот так.
И вот они уже за бетонной оградой, которая призвана изолировать мир вооруженных защитников рыночной экономики от соблазнов рынка.
В тени пыльного тополя размещался небольшой навес, под ним стол и деревянные скамейки вокруг стола. Они надежно вкопаны в землю, чтобы ничья хозяйственная рука не пожелала их в темную пору суток социализнуть. Забор, конечно, в гарнизоне есть, но разве он от соблазнов оберегает?
— Садитесь, друзья! — Тишков сама воинская вежливость и армейское гостеприимство. — В ногах, как говорят, правды нет. Будьте как дома!
Второй взрыв хмельного изумления утроба принимает проще первого: водка льется внутрь как по маслу и радость крыльями растет за плечами.
— Наливай!
Слушай, Тишков, может, с тебя хватит? — в голосе Ручкина показная тревога. — Мы уже славно дернули. А ты все же на службе…
Прапорщик придержал тяжелой рукой бутылку, которую собирались от него отставить.
— Думаешь, закосею? Не, ни в жизнь… Вот так.
— Смотри, мне что. Твое дело…
Ручкин набулькал остатки водки в кружку и подвинул к Тишкову. Тот взял, но пить сразу не стал.
— За вас, мужики.
Голос у прапорщика искренний, со слезой, будто на войну старых сердечных друзей провожает.
— За всех, кто на военке, — Ручкин произнес тост в пространство, не глядя на Тишкова. Так было проще придать словам видимость сказанных к случаю — Где-то тут мой племяш огинается. Хотя ты вряд ли его встречал…
— Он здесь был? Тогда встречал. Я их всех, как младенцев, — с рук в руки…
— Не, вряд ли.
Ручкин своими сомнениями задел гордость прапорщика, который действительно был неплохим физиономистом и обладал хорошей памятью на фамилии и лица.
— Говори, я вспомню.
— Да ладно…
— Не-е, ты уж изволь. Раз заикнулся — валяй, говори.
— Скажи ему, — поддержал Тишкова Булкин. — Пусть поломает голову.
— Игорь.
— Что Игорь? — Тишков осклабился. — Это у вас в деревне сказал «Игорь», и все уже догадались кто он. А ко мне тут приходит команда, а в ней Игорь на Игоре. Или одни Викторы вдруг косяком прут. Как не стало святцев — так и двинула мода на имена…
— Игорь Немцев.
Ручкин сказал, и ему вдруг показалось, что на какое-то мгновение взгляд Тишкова протрезвел. Он посмотрел на собеседников пристально.
— Значит, Немцев? А ты знаешь чей он сын?
— Мне бы не знать! Он мой племянник.
— Ну, ну… — Тишков словно бы опечалился. — Ты вроде мужик ничего, а он…
— Знаю. Говно парень. Можешь не говорить.
— Вот так! Это мне в тебе и понравилось — правильно мыслишь. — Тишков ожил, повеселел. Отодвинул пустую кружку и перевернул ее вверх дном. — Все, завязали.
— Так помнишь Игоря? — Булкин смотрел на Тишкова с интересом болельщика.
— Ты тоже его дядя? — Прапорщик явно сердился.
— Ни в коем разе. — Булкин развел руками. — Ни сном ни духом.
— Вот тебе за это скажу. А его, — Тишков показал на Ручкина пальцем, — обижать не хочу. Человек он хороший, a племяш — говно.
— Что так?
— Для меня человек пропадает, если от армии косит. Настоящий мужик — это солдат.
— А он что, закосил?
— А то. Сам поганка, и отец дерьмо: отмазал парня от службы.
— Не может быть! — Булкин заволновался, да так натурально, что не поверить было нельзя.
— Еще как было! Я сам ему документы готовил. Но… — Тишков поднял палец и выдержал многозначительную паузу, — не по собственной воле и не из корысти, а повинуясь приказу. Вот так!
Он даже задохнулся, сформулировав и произнеся такую гладкую и, главное, убедительную фразу.
— Заставили?!
Ручкин и Булкин выдохнули взрыв изумления вместе.
— Еще как! — Опять Тишков поднял к небу перст указующий. — Здесь вам не колхоз Одно слово — армия! Если нашего министра Арину Родионовну под жопу пинком выставили из рядов за непочтение к папе, то уж Тишкова вообще бы под асфальтировочный каток сунули. Вот так… — И уже тоном помягче добавил: — У прапора дело телячье — копыто под козырь, кругом через левое плечо и вып-пол-няй!
— И куда же Игорь подевался?
— Ку-ку! Это нашему командованию уже неизвестно. Знаю одно — в тот день отправлялась команда на Дальний Восток. В сопроводиловку фамилия Немцева не попала. А вот в нашем списке на отправку она указана. Так что где-то служит герой. На Курилах, или даже на Чукотке…
— А на самом деле?
— На самом деле твой племяш ушел от нас как Игорь Мещерский.
— Вот зараза, — вскипел Ручкин, — это же фамилия его матери.
— Чья уж там — я не знаю. Факт один — в его военном билете указано: «Игорь Мещерский оттрубил положенный срок солдатской службы от и до…» Короче, с приветом, я ваша тетя…
У хорошего хозяина в запасе всегда имеется все для ведения хозяйства — лопата и грабли, молоток и гвозди, даже навоз, хранящийся в компостной яме в дальнем углу участка. А как иначе?
В хозяйстве прокурора Корнея Назаровича Волкова на роль навоза в предстоявшем деле лучше всего подходил следователь Волобуев. Он уже дважды за время службы был схвачен за руку в момент получения легкой мзды. Три года подряд находился в алкогольном рабстве: жрал водяру до посинения личности, опустился, мочился в штаны, провонял нещадно. Потом лечился у какого-то умельца заговорами и воздержанием. Пить, на удивление, перестал, но вместе с жаждой утратил интерес к жизни: глаза стали тусклыми, взгляд угрюмым, в душе гнездилась дикая тоска.