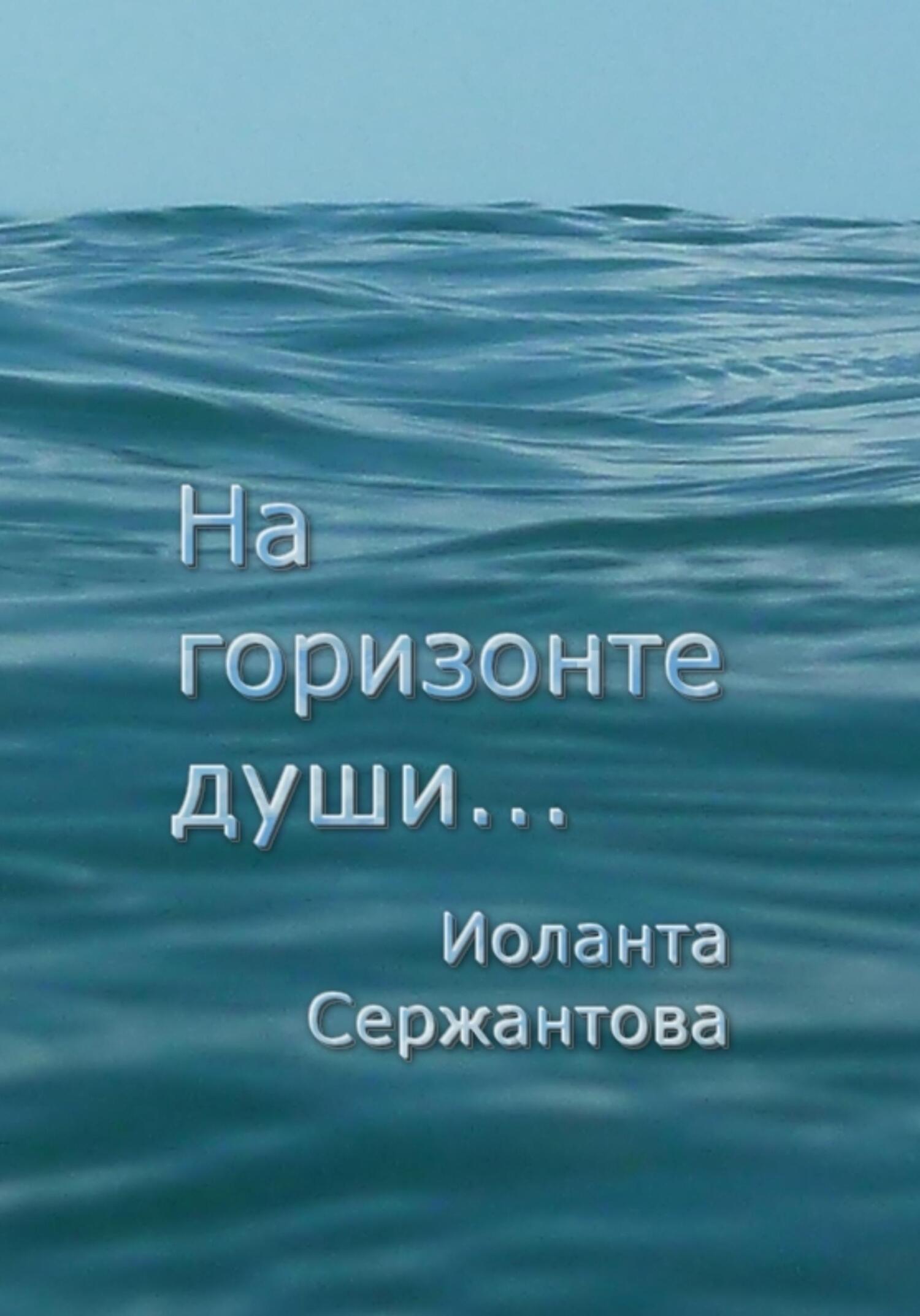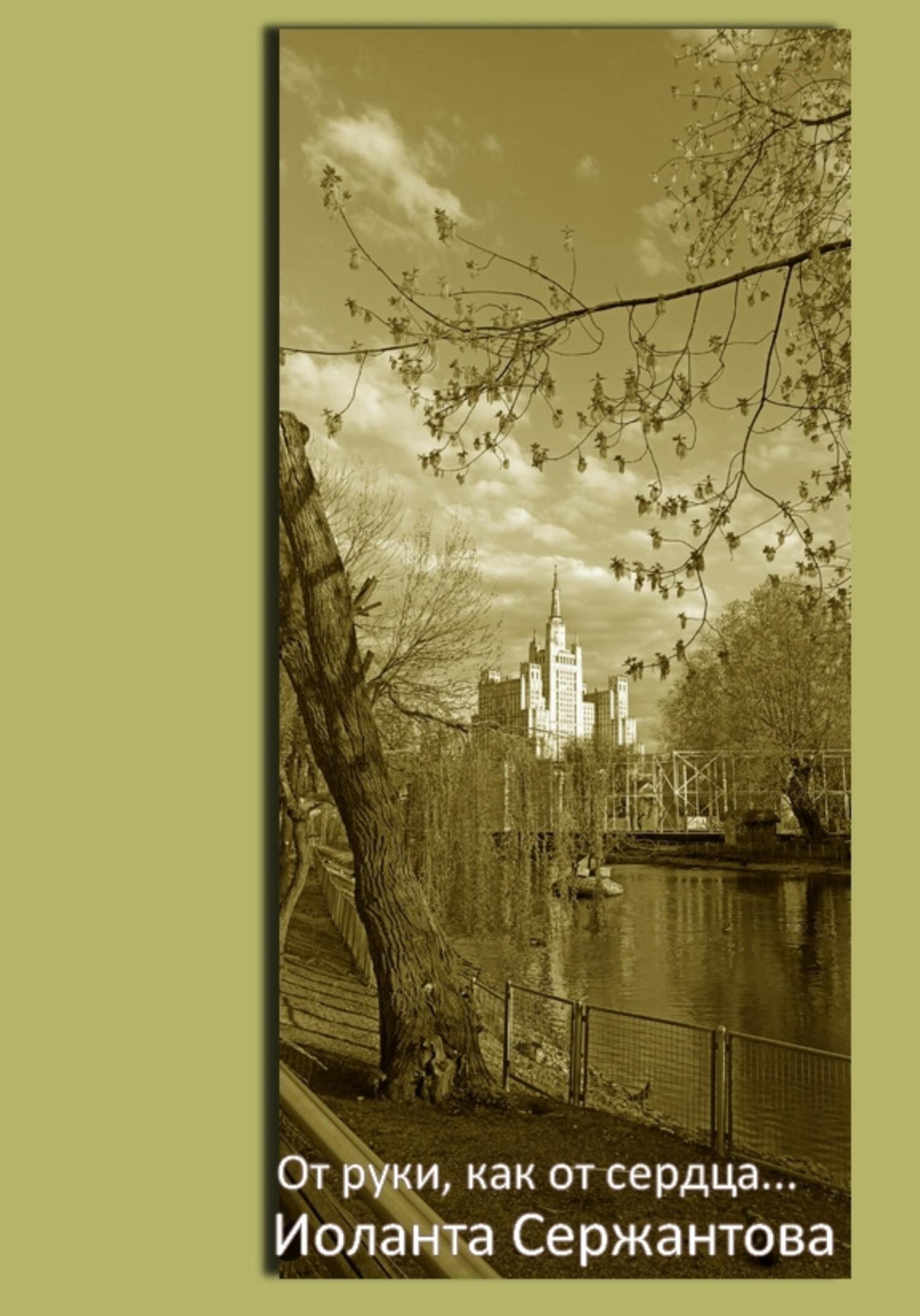только я и брат, если мы все втроём, рядом с сестрой я чувствую себя лишней, ненужной, позабытой братом. И это очень обидно. Ведь мне хотелось, чтобы мы — взявшись за руки втроём, были рядом всегда, всю жизнь…
Тогда я не знала, что не бывать тому. Не бывает так. Ни у кого.
…Отец щёлкнул затвором фотоаппарата раз, другой, третий… Брат с сестрой скрылись было за дверью спальни деда вновь, но услыхали, что бабушка, ухватившись за укутанный в пальто таз с тестом, тащит его в кухню, и побежали следом, задевая занавеску, за которой всё ещё прячусь я. Не скрывая радости, стараюсь не отстать, а там уж в кухне, как по жизни, — во всю распоряжается бабушка, наделяя каждого весомым кусочком сырого теста, заодно с пониманием: кто мы есть друг для друга, две сестры и брат.
Тем вечером мы с отцом шли молча, обходя бесконечные чёрные осенние лужи, каждый думая о своём. Почему не всей семьёю, — не помню, хотя подобное было не в первый раз.
Дом культуры, нарядный сам по себе, щеголял икрами балюстрад в глянцевых, будто шёлковых белоснежных чулках масляной краски.
Перед тем, двумя неделями ранее, мы побывали на встрече с роскошной Галиной Бесединой, и настроились на нечто подобное — расписанную, как по нотам, от «до» до «до», программу, вкупе с ненавязчивым, легко ускользающим послевкусием приятно и не зря проведённого вечера.
Но тот, навстречу с которым мы так невесело торопились, был словно диковинная птица, залетевшая с улицы во дворец через незапертое окошко. Вместо того, чтобы метаться бесцельно, биться грудью о раму, оставляя следы когтей на подоконнике или тщиться пробить потолок, взмывая к лепнине плафона, запёкшейся на манер молочной пенки по краю белой фарфоровой чашки, что по недосмотру няни осталась недопитой за завтраком, он вступал в залу тихонько, и пережидал подле двери, покуда его заметят.
Не задетая крыльями хрустальная люстра, тихо и жалобно звенела своими крупными, на грани приличия, серьгами, призывая замолчать… Он же, заместо сей всевозможной суеты, несколько привыкал к публике, исподволь прислушиваясь к угасающему пламени разговоров, сплетению запахов жизни с ароматами духов, дуэли преувеличенных тенями взглядов и наполненных безразличием лиц тех, кто забрёл в это общество случайно, по недоразумению свободного от забот вечера…
И вот, когда это всё утомилось само собой, он вошёл, касаясь паркета, как раскалённых кострищем углей, пред полным залом полных заведомого разочарования и скептицизма разных, неродных друг другу особ. Пышными, яркими нарядами он будил в публике не насмешку, но то первобытное удивление, что таится в каждом с малолетства, а излучающий достоинство образ вызывал уважение, граничащее с не имеющем пределов восторгом.
Всякий из его танцев был полон, после любого из них можно было не ожидать продолжения. Очарованная, завороженная и обессиленная финалом публика замирала ненадолго и несмело принималась рукоплескать, сокрушаясь, что вот, теперь уж, верно, поставлена та самая точка, после которой начнётся новая, неведомая, ведОмая, опостылевшая и глубоко прекрасная жизнь.
К счастью, каждый раз это был ещё не конец, и он вновь принимался сокрушать обыденность и пространство телодвижениями, схожими по плавности с речными водорослями, что рвутся вслед за течением, оставаясь навечно на месте.
Махмуд Алисултанович Эсамбаев 10 танцевал о любви. О тяге людей друг к другу, как прекрасному в человечестве, вне которого мир давно перестал бы быть собой.
Приоткрыв дверь в спальню шире обыкновенного, я столкнулся лицом к лицу со златоглазкой 11. Спросонок та глядела на меня томно и откровенно ласково.
— Уже весна? — поинтересовалась она, кокетничая через силу.
— Да, вроде, нет ещё, только-только растратился январь.
— Всё, до последней минутки? — выкатила глаза флёрница.
— Увы. — вздохнул я, не скрывая сожаления о скоротечности времени, ибо об этом невозможно не печалиться, как смириться с этим не выходит ни у кого и никак.
— Так почто ж меня будить? — прилично и нешироко зевнула красавица. — Пойду-ка, поищу себе место, досыпать. — заявила она, взмахнув для убедительности несуществующими, воображаемыми ресницами. Будь они у златоглазки в самом деле, немало сердец завлекла бы эта милашка в свои широко расставленные сети.
Наделяя сию букашку утончённой наивной прелестью, природа, вероятно, стремилась уберечь её от бед, что неизменно подстерегают иных особ, обладающих, по мнению брезгливых обывателей с ранимой натурой, безобразной, неподходящей наружностью. Пугливые, порывистые и неловкие от того, эти, невысокого полёта личности причинили немало неудовольствий, истребляя мушек, пауков и прочих беспозвоночных членистоногих, льнущих к человеческому жилищу, заселяющихся без спроса и свидетельств владельцев о дозволении на то. Чуть где промелькнуло нечто, — личности с воплем: «Изловить!» хватаются за газету, тапок, и торопятся избавиться от незваного посетителя. Случаются и казусы, когда те самые ведомости с туфлёю опускаются не токмо на домочадцев, но и на самоё себя, причиняя ущерб благообразию, с падением под ноги стульев, рёвом детворы и воплями подвернувшегося некстати под ноги кота.
Однако покуда пришлось к слову помянуть всех, златоглазка упорхнула в известное ей одной место, с тем, чтобы предстать пред ясны очи в самое своё время, а именно — накануне действительной, настоящей весны.
Скор на расправу февраль…
Широкая грудь неба, покрытая курчавыми жёсткими волосами кроны, растягивала тельняшку рассвета причудливой, виданной тысячелетиями расцветки, где голубые полосы переменялись тонкими розовыми и оранжевыми, нанесёнными не столь густо, сколь основательно.
Со стороны могло показаться, что то распущенная лентой шкурка некоего огромного апельсина. Сдёрнутый нечаянно детской рукой с рождественской ели, он оцарапался об иголки, скатываясь по ступеням ветвей книзу. Вот, незадача! — добирались до конфеты, либо пастилки, а под ноги упал сладкий померанец…
Видение или даже самый озарённый им час сочился праздником, ровно тот пахучий заморский плод. Хотя, коли по совести, ощутимо витало в воздухе неспешное, вдумчивое предвкушение весенней поры, некое упругое напряжение в воздухе, схожее с гудением шмеля. К тому же, имея весну в виду, сменяя собой порывистость, суету и прочие признаки всякой тщетности вообще, наступало спокойное ожидание неизбежности, в лучшем понимании этого явления.
Ибо скор на расправу февраль, даже високосный.
И, дабы не сожалеть после о потерянных зря днях и не пережитых забавах, дразня бледную округу яркостию нарядов, прогуливаются, стаптывая заместо подошвы сугробы, дамы и молодухи с кавалерами и без.
А с реки слышен стук коньков о мёрзлую воду, да будто кто катает бильярдные шары, — это ж там, опережая ледоход и пыля ледяною стружкой, управляется детвора, мирясь с соседством наиболее дерзких девиц,