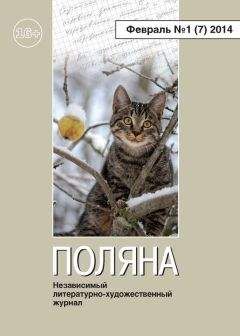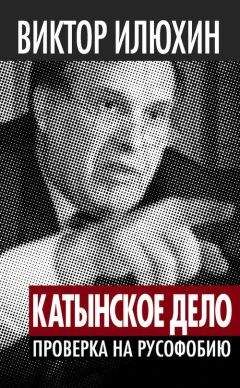Вновь вышли на улицу. Посерело. Разбежались по домам пацаны. Грустный Славка встал за спиной баяниста. Тот сказал:
— Готовься. Кондиция номер пять.
И сыграл «цыганочку». Получилось у него особенно хорошо. На Леньку, казалось, не действовал ни салат, ни морс, ни деревенская самогонка, запах которой стелился по всей округе. И народ плясал, хоть и не жилпоселовский, но здорово!
— Подкрепись, — веселый тамада поставил на баян стопку и тарелку с огурцом. Ленька махом выпил, хрустнул огурцом, перешел на фокстрот. То есть все по плану. После фокстрота (а уже стемнело) баянист встал, передал Славке баян, шепнул: «Вальс, „Подмосковные вечера“ и… понял?»
— Все понял.
«Дунайские волны» Славка играл на берегу Рожайки с чувством, на которое способен лишь матерый морской волк. Хорошо он дома потренировался перед свадьбой. Сто пятьдесят семь раз сыграл его за пару дней. Соседи чуть с ума не сошли, даже Леньку ругали. Зато теперь ни одной помарочки, ни одного сбоя не сделал Славка. Кружились пары — так здорово! Его даже на «бис» попросили сыграть, а тамада на радостях вынес стопку с мутной жидкостью, буркнул, пошатываясь:
— Тяни. Щас закусь приволоку.
Славка украдкой вылил самогонку под ноги и заиграл «Подмосковные вечера». Пели, танцевали, слушали, как бы сравнивая слова и музыку с тем, что виделось и слышалось вокруг. Сколько раз он дома сыграл эту мелодию, не известно, со счета сбился, но только он закончил последний куплет, как за спиной крикнули:
— Танго давай! Белый танец!
Славка сыграл первые такты, а тот же голос запел негромко: «Вдали погас последний луч заката».
Девушки по-свойски прижимались к парням, отодвигались подальше от света, от калитки — в деревенскую густую темноту. Что они там делали, баянист не знал, но на пятачке людей становилось все меньше. Ленька стоял за спиной и помыкивал под нос: «Прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя…».
— Ну спасибо, Леха! Век не забуду! — подошел к ним тамада. — Пропили племяшку мою, как надо. Разбежалась молодежь?
— Да.
— Охренели все. С часу гудим. Ленка своего увела к бабке. Вмажем чуток?
— Нет, Петро. К своим пойду.
— Приходи завтра к Похмелон Иванычу.
— Ладно.
Ленька подхватил баян, и они пошли со Славкой вдоль берега на другой конец села.
— Ушла, — буркнул лучший баянист Жилпоселка, а то и всего Домодедово, и вдруг крякнул без обиды. — Черт с ней! Что нам эта Рожайка? Скоро «Ижак» куплю, на Москву-реку ездить будем, в Серебряный Бор. Туда таких рыжих вообще не пускают. Чтобы масть московскую не портили, понял?
Спали они на сеновале, а там к утру такой холод разгулялся, что встали они рано-рано. Выпили парного молока с черным хлебом, и Ленька буркнул:
— Что мне на ее додика смотреть? Айда домой.
Шел он быстро, холод и молоко быстро трезвили его. Славка молчал. Ему-то что? Ну, помучался он с вальсами и фокстротами неделю, ну в чиру деревенских не ободрал, подумаешь! Зато салата объелся с вареной колбасой и со сметаной, морсу напился как следует. И все его хвалили. Ленька, правда, не хвалил. Даже за белое танго. Понятно почему. А он-то ни одной помарочки не сделал.
— Сейчас одну вещь покажу, — сказал Ленька в лесу. — Тут черемуха растет. Роща целая над рекой.
— И что?
— Чудак-человек! Ты когда-нибудь видел реку белую? Совсем белую, как молоко. Сейчас увидишь.
Обогнув косогор, вышли на поляну. За ней колыхались мохнатые белые шапки деревьев.
— Чуешь, духан какой. И холод сейчас стоит черемуховый, понял?
Ленька что-то говорил о приметах, о белой Рожайке, а Славка лишь вздыхал удивленно: «Даже спасибо не сказал, тоже мне. Что я, черемухи не видел?»
А черемуха росла здесь, на склонах большого холма, по-над речкой, огромная. Дерево к дереву, семья, роща. И шапки у всех одинаковые, и ноги толстые, и лапы тяжелые: кулачищи!
— Смотри сам! — Ленька заметил Славкино удивление, засмеялся. — Говорил тебе!
Славка остановился от неожиданности — так поразил его вид Рожайки.
— Скажи, вещь! — Ленька поставил баян на камень, быстро разделся. — Окупнусь малость.
Подошел к реке. Она была белая-белая. Плотное покрывало из цветка черемухи покоилось на ее теле. Миллиарды миллионов белых лепестков отдала черемуховая роща реке: бери, радуйся, не все же тебе возиться с пацанвой, которой от тебя нужны только рыбеха да вода в летний зной. Рожайка приняла дар с трепетом, притихла вода быстрая, склонились над ней крупные деревья.
— Здесь каждую весну так, — пояснил Ленька, а Славка даже про свой триумф забыл баянный — очень хотелось искупаться в белой речке, никогда он не купался в такой Рожайке, хоть бы разок бултыхнуться.
— Нельзя, — опередил его Ленька. — Заболеешь, а мне перед твоей матерью оправдываться.
Он, голый, попробовал воду, на ладони остались веснушками лепестки, река была не жадная — нужно, бери.
— Ух! — Ленька нырнул.
Очень грамотно нырнул, параллельно воде. Здесь же мелко, по пояс даже весной. Вынырнул он еще красивей, с рожайкиными белыми цветами на плечах, голове, спине, на руках. Черемуховый Ленька-баянист в белой реке без белой невесты. Шуганул туда-сюда руками, разогнал цветы, резко сел в воду, вскочил и, разгребая лепестковое покрывало, вышел на берег. Улыбнулся, как вечерами с баяном у подъезда, покрякал, оделся. Река затянулась белой пеленой.
— Скоро поедем с отцом «Ижак» покупать. Он сначала не хотел, говорил, в армию все равно скоро мне. Но я его уломал. В Серебряный Бор будем ездить, точняк.
«Скоро я на море уеду», — грустно подумал Славка, и лучше бы он о чем-нибудь другом подумал, потому что…
Он уехал в деревню, когда у Леньки мотоцикла еще не было, а вернулся на поселок в конце августа — Леньку в армию давно забрали: баян его лежал на шкафу, мотоцикл, серебристого цвета огромный «Ижак» двухцилиндровый, стоял в сарае.
Письма Ленька писал неохотно даже родителям, даже в первые полгода службы, но вдруг прислал Славке фотографию: на берегу моря, на большом валуне, стоял он в окружении друзей с баяном в руках. Сам улыбается, меха в разные стороны, вода морская искрится. Весело ему, видно, в армии, думал Славка, разглядывая фотографию, но лучше бы он так не думал, потому что…
Из армии Ленька Афонин не вернулся, и в Серебряный Бор они с ним так и не съездили.
Мы уже знали и как получаются дети, и почему папы уходят к новым женам, и что им друг от друга надо, и зачем все это среди взрослых заведено: поцелуи разные, обнимания, поглаживания по голове, шептанья-кривлянья-ломанья, ну и все такое прочее. Но тот случай нас ошеломил.
Утром, не успели мы собраться у доминошного стола, пошел по поселку шепот: в карьере они, в ложбинке на склоне холма у пруда, прямо в траве, никого не боятся, идите смотрите, пока не поздно. Малышня, конечно, сразу дунула в карьер — удочки на плечо для отвода глаз и в карьер. А нам, шестиклассникам, с ними вроде бы не по пути.
— Подумаешь, делов-то! — мы важно размешивали доминошки, но не закончилась и первая партия, как из карьера примчались гонцы:
— Точно! Никого не боятся, лежат прямо в траве!
— Вам что, делать нечего? — держали мы марку, но через пять-семь минут какой-нибудь пацаненок подходил к столу и с удивленно-вытаращенными глазами докладывал:
— Сам видел! Они…
И рассказывал такое, что, конечно же, мы и сами давно знали да не видели никогда — хотя и скрывали это от взволнованной малышни.
Волнение, между прочим, перекинулось на старушек у подъездов (неужели и им кто-нибудь сообщил?!), на девчонок с куклами, на кошек, которые, хотя и не понимали, о чем речь, извертелись все, изъюлились.
— Опоздаете, дураки! — свалился на наши головы Витька Козырьков и, важно сплюнув, сел за стол. — Я на следующего. Они с утра там. Скоро уйдут.
С ним мы считались, хотя бы потому, что он прекрасно понимал и наши ухмылки, и гордые ответы малышне.
— Зря, — повторил Витька и (то ли нам показалось, то ли действительно так было) усмехнулась вслед за ним какая-то девчонка: «Зря!»
Тут-то мы разом вскочили с мест и, позабыв про домино, малышню, девчонок, кошек и старушек, побежали в карьер. Мы очень вовремя спохватились — это чувствовалось по кислым рожицам куклиных мамочек: им, видно, тоже хотелось посмотреть — как бы не так, сначала мы!
— Мне Кудря сказал: он траву утром там косил кроликам, — хвалился Витька. — Я туда и рванул. В траве спрятался, боялся сначала. А потом вижу, им все равно, как будто не видят они и не слышат ничего, встал во весь рост и… как в кино было видно!
— В кино такого не показывают, — пропыхтел какой-то малышок — они все-таки увязались за нами, еще раз посмотреть захотели.
— А кто это? — спросил кто-то Витьку.