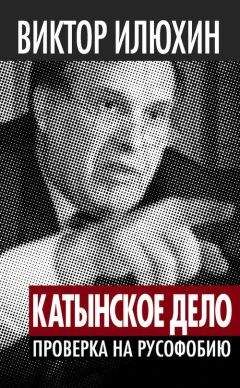Игорь Царев[2]
Съели сумерки резьбу, украшавшую избу.
Звёзды выступили в небе, как испарина на лбу.
Здесь живет Иероним — и наивен, и раним.
Деревенский сочинитель… Боже, смилуйся над ним!
Бьётся строф ночная рать… Сколько силы ни потрать,
Всё равно родня отправит на растоп его тетрадь.
Вся награда для творца — синяки на пол-лица,
Но словцо к словцу приладит и на сердце звон-ни-ца…
На печи поёт сверчок, у свечи оплыл бочок —
Все детали подмечает деревенский дурачок:
Он своих чернильных пчёл прочим пчёлам предпочёл,
Пишет — будто горьким мёдом… Кто б ещё его прочел.
У судьбы и свинчатка в перчатке, и челюсть квадратна,
И вокзал на подхвате, и касса в приделе фанерном,
И плацкартный билет — на удачу, туда и обратно,
И гудок тепловоза — короткий и бьющий по нервам…
И когда в третий раз прокричит за спиною загонщик,
Распугав привокзальных ворон и носильщиков сонных,
Ты почти добровольно войдёшь в полутёмный вагончик,
Уплывая сквозь маленький космос огней станционных.
И оплатишь постель, и, как все, выпьешь чаю с колбаской,
Только, как ни рядись, не стыкуются дебет и кредит,
И намётанный взгляд проводницы оценит с опаской:
Это что там за шушера в Малую Вишеру едет?
Что ей скажешь в ответ, если правда изрядно изношен?
Разучившись с годами кивать, соглашаться и гнуться,
Ты, как мудрый клинок, даже вынутый жизнью из ножен,
Больше прочих побед хочешь в ножны обратно вернуться…
И перрон подползёт, словно «скорая помощь» к парадной…
И качнутся усталые буквы на вывеске гнутой…
Проводница прищурит глаза, объявляя злорадно:
Ваша Малая Вишера, поезд стоит три минуты…
И вздохнув обреченно, ты бросишься в новое бегство,
Унося, как багаж, невесомость ненужной свободы,
И бумажный фонарик ещё различимого детства,
Освещая дорогу, тебе подмигнет с небосвода.
Не эталоны образцовости,
В век, вызревший на человечине,
Они от анемии совести
Лечились до цирроза печени….
(вместо эпиграфа)
…Трещали чёрные динамики,
Как на жаровне барабулька.
Сосед мой, спец в гидродинамике,
В стаканы водку лил «по булькам».
Слепой, а получалось поровну,
И на закуску под тальянку
Затягивал негромко «Ворона»,
Да так, что душу наизнанку!
У Бога мамкою намоленный,
Он вырос не под образами…
Сквозь пелену от беломорины
Сверкал незрячими глазами
И горькие слова выкаркивал
Комками застарелой боли,
Как будто лёгкие выхаркивал,
Застуженные на Тоболе….
А брат его, картечью меченный,
На вид ещё казался прочен,
Хотя и стал после неметчины
На полторы ноги короче,
Но даже пил с какой-то грацией,
И ордена сияли лаком….
А я глядел на них в прострации,
И слушал «Ворона», и плакал.
Разве в раковине море шумит?
Там вчерашняя посуда горой.
Ну, а то, что душу с телом штормит —
Ты с моё попробуй выпить, герой!
И не хвастайся холёной Москвой,
Ты влюблён в неё, а сам-то любим?
Её губы горше пены морской,
Холоднее океанских глубин.
Близоруким небесам не молюсь —
Кто я есть на этом дне городском?
Безымянный брюхоногий моллюск,
Но с жемчужиною под языком.
В начале 1990-х все трещало по швам: одряхленная власть теряла последние нити управления, от бескрайней некогда страны отрывались один за другим яркие разноцветные лоскуты, да и внутри державы все оказалось шито не такими уж крепкими нитками. Жизнь рушилась. А отделы по борьбе с организованной преступностью только начинали свою работу…
В квартиру на пятом этаже «сталинской» высотки по Котельнической набережной ворвались, приставив пистолет к виску домработницы… Обошлось без визга и сопротивления — домработница, изобразив обморок, тихо обмякла в решительных объятиях майора Казакова. В прихожей на вешалке на истертых бурых ремнях висели два музейных ППШ с выщербленными деревянными прикладами; возле зеркала на банкетке лежал вороненый наган.
Оперативники бесшумно рассыпались по комнатам.
В гостиной среди рубиновых ковров обнаружился встревоженный небритый субъект в атласном халате. Подле него, на антикварном столике, высилась початая бутылка коньяка, икра в хрустальной вазочке, на фарфоровом блюде таяли осетрина, стерлядь и какие-то грибочки, тонкие дольки лимона располагались на тарелочке, небольшая серебряная вазочка на коротких изогнутых ножках ломилась от соли.
— Гражданин Щукин! — входя в гостиную, прогремел Казаков. — Незаконное хранение оружия у тебя уже есть!.. Чем еще порадуешь? Будем дальше искать или сам покажешь?
— Здорово, ребята, — растерянно пробормотал Щукин, порываясь подняться. — Вы что ж, новые, что ли? Я вас не знаю… Вы кто?
— Отдел по борьбе с оргпреступностью. Вот ордер на обыск… — Казаков взмахнул сложенным вчетверо листком бумаги и спрятал его во внутренний карман. — Еще оружие в доме есть?
— Оружие?.. — Щукин хмуро поскреб щеку исколотой пятерней, дернул плечом, так что хрустнуло где-то внутри его жилистой шеи. — Вот что, ребята: вас сколько? Шестеро? Дайте полчаса и один звонок — каждому по десять тысяч баксов, и вы сюда не входили…
— Дешево покупаешь, Щукин, — ответил Казаков, оглядывая бандита.
— Сколько ж ты хочешь? — подчеркивая «ты», спросил Щукин.
— Честь офицера оцениваешь? — усмехнулся Казаков. — Не продается…
— Понял… уважаю, — Щукин пожал плечами. — Могу ли я, в таком случае, закончить трапезу? Ведь я у себя дома, бежать не собираюсь…
Казаков кивнул, опустился в широкое мягкое кресло, расстегнул пиджак. «Неужели проверка? Отдел создали, чтобы хоть кого-то из тех, кому давно пора на нары, до суда довести, а тут: по десять тысяч на брата! — это два года честной службы… Десять тысяч без всякого риска!.. А раньше вывели бы эту мразь во двор, да шлепнули бы к такой-то матери…»
Тем временем Щукин налил коньяку, выпил, гуляя острым кадыком, щедро сыпанул соли из вазочки на ломтик лимона.
— Может, и вы присоединитесь? — предложил он, поддевая вилкой кусок осетрины. Казаков усмехнулся.
— В другой раз, непременно…
— Ну, что ж… Не смею настаивать, — согласился Щукин, вновь наполняя фужер. Опорожнив его, посыпал солью лимон и налил опять.
Квартиру перевернули вверх дном. Кроме оружия, найденного в прихожей, ничего не нашли… ни наркотиков, ни денег, ни драгоценностей… Два древних автомата и наган — вся добыча…
После третьего фужера, Щукин повел ошалелыми глазами, скривил рот и гаркнул:
— Ну что, ментозавры, вылупились? Думаете — взяли?
«Эк его с полбутылки коньяку! — удивился Казаков. — Что ж это он — всю соль сожрал!» Он повернул выключатель — электричество залило комнату.
— Ментоны поганые, — сверкая маслеными зрачками, цедил Щукин. — Ищейки позорные… Подойдя к столику, Казаков сунул палец в вазочку, попробовал на язык «соль».
— Кокаин!.. Ах ты, гад! Я тебе покажу трапезу! Ищейки, говоришь, позорные?!.. Вмиг бандита уложили носом в ковер, руки скованы за спиной. По дороге в изолятор он усмехался и цедил сквозь зубы:
— Не того взяли, ребята, неувязочка вышла… Прокол… А я завтра же выйду…
На следующий день Щукин, как и обещал, вышел под залог. Позже стало известно: начальник следственного изолятора получил за это тридцать тысяч долларов. Адвокаты Щукина развалили уголовное дело, так что залог был возвращен ему полностью…
А на Пасху Казакова вызвали к генералу.
Генерал — маленький лысоватый человечек в роговых очках — резанул ледяным взглядом.
— Слыхал, ты просишься в Чечню? — проговорил он медленно. — Молодец, уважаю… Очередное звание получишь по возвращении… Трудности есть? Материальное положение, жилье… Обеспечен?
— Так точно, товарищ генерал.
— Тогда жду рапорт…
— А если не напишу?
— Любой рапорт жду: или о командировке или об увольнении…