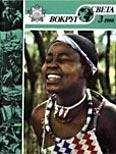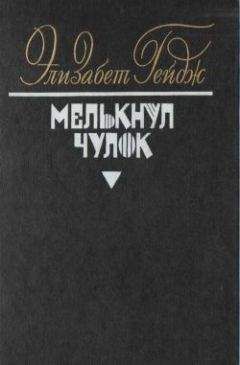«Ладно, лежи себе спокойно»,— сказал я ему.
Когда я вышел, неподалеку гремели выстрелы. Слышались крики, слова команд. Я побежал к ложбинке. И уже поднимаясь по ней, столкнулся с нашими. С ними был и Хосе.
«Пойдем,— сказал он мне.— Надо выбить их отсюда — слишком близко подобрались к селению».
Несколько часов длился бой. И в конце концов мы потеряли друг друга, потому что перестрелка шла в основном в лесу. Вообще это была очень странная война. Карабинеры теперь спешивались задолго до того, как подняться сюда, оставляли коней внизу, потому что сидя в седле рано или поздно провалишься в уачи. И потом, когда мы поджидали в засаде, пока не появятся всадники, их легко было убивать. Но потом они тоже стали устраивать засады, и воевать с ними было уже сложней. Вообрази себе, сеньор: ты тихонечко, крадучись обходишь зеленый куст... И лицом к лицу сталкиваешься с неприятелем. Да и мудрено было его заметить: и плащ, и кепи у него зеленые. Из двоих так вот повстречавшихся на ногах оставался один — тот, кто успевал выстрелить первым. Но когда, например, падал раненый индеец, его приканчивали на месте, а если они не очень торопились, то с большой помпой устраивали расстрел: другим в назидание, ты же знаешь.
...Карабинерам никак не удавалось перетащить на наш берег крупнокалиберные пулеметы. Из всех мостов уцелел только один — Центральный, но у самого берега, с обеих сторон моста, парни из креолов, проходившие когда-то военную службу, организовали засады. И те, кто не слишком торопился пройти пролеты, неизбежно попадали на мушку. Тогда они стали стрелять из пулеметов прямо с той стороны, но от этого было больше шума, чем дела. Когда же пытались прорваться верхом, мы снимали двоих-троих всадников, остальные ретировались. Но это — конница, с тяжелыми пулеметами так не разбежишься. Поэтому у нас всегда оставалось время, чтобы хорошенько прицелиться. Достаточно было убить тянувшего эту махину першерона. Снять засаду нас вынудили вышедшие нам в спину, с севера, карабинеры из Куальяла. Они перешли Био-Био много ниже по течению, там, где мосты стояли нетронутыми. Это была наша ошибка. Защитники того участка никак не хотели разрушать мосты, потому что намеревались пробраться по ним к мельницам, чтобы пополнить запасы муки. Отказываться от такой возможности они не хотели, а когда спохватились, было уже поздно. Видишь, что произошло? Нас попросту зажали между двух огней, ударили в спину и вынудили отойти от моста. Тяжелые пулеметы потянулись на наш берег. И все же эта операция отняла у них неделю, не меньше. Но и мы вынуждены были отойти от своего селения и подняться выше — в горные леса. Однажды вечером, сидя в пещере, мы с Хосе вдруг услышали крики его жены — она звала Хосе на помощь, и голос ее был страшен. Хосе побелел как снег, весь подобрался, вид его был зловеще-спокоен. Она кричала не переставая. Это был голос ребенка, заблудившегося в лесу, он просил, умолял, горько жаловался. Хосе молчал, крики раздавались снизу, неподалеку от дома, их слышно было по всему лесу, они множились, как множатся предметы, если ты спрячешь зоркие глаза за толстыми стеклышками очков. Я не знал, что сказать Хосе. Я видел его страдания, но ничего поделать не мог... Он только глянул на меня и сказал:
«Не смотри ты на меня так. Ничего здесь не поделаешь».
«Я и не смотрю на тебя, Хосе»,— сказал я.
Тогда он обнял меня за плечи и сказал очень тихо: «Они убивают ее, Анголь Мамалькауэльо».
«Да, Хосе,— сказал я.— Они ее убивают».
«Послушай, как она умирает»,— сказал он мне.
Я вслушался: она умерла. Потом прошло много времени, и вдруг мы увидели отблески пламени — горел дом Хосе, и мы увидели языки огня — они лизали труп его потерявшегося в лесу ребенка, и мы услышали, как огонь подбирается к книгам Хосе. В ту самую ночь он сказал мне:
«Анголь Мамалькауэльо, я закрываю глаза и вижу Дельяниру. Но не поруганной и истерзанной я ее вижу. Я вижу, как в свете полной луны она танцует и на шее ее — ожерелье из черепов, а танцует она на кладбище городка Сан-Хуан де ла Коста».
«Почему Сан-Хуан де ла Коста?»
«Потому что однажды я был там на карнавале и видел, как одна девушка танцевала, а на шее у нее было ожерелье из черепов карабинеров».
И он замолчал. Ему было слишком больно. Дельянира умерла в воскресенье.
Я спрашиваю Анголя Мамалькауэльо:
— Откуда ты знаешь, что было воскресенье?
— Потому что звонили колокола в Лонкимае.
— А если бы не звонили?
— Не было бы воскресенья. Но в конце концов, было бы или нет — нам безразлично. Воскресенье — день никудышный, нет в нем никакой пользы. У нас нет календаря дней отдыха или работы. Мы живем временами года, что-то делать или отдыхать нас подталкивает необходимость... Но так или иначе, когда сожгли жену Хосе, дом Хосе и книги Хосе, звучали колокола. Христиане, живущие в долине, праздновали выходной. Они, конечно, сходили на мессу и причастились. Сеньор Алессандри тоже наверняка должен был причаститься. И командиры карабинеров. И церковь в Лонкимае звонила в колокола, возвещая мессу, а не тот скорбный час, когда был сожжен дом Хосе, убита жена Хосе, сожжены книги Хосе.
Уже глубокой ночью я тихонько тронул его за плечи:
«Хосе, у входа в пещеру стреножены мои кони. Возьмем их и отправимся биться».
Хосе надел сапоги. Вооружились мы чуть не до зубов.
«Что ж, идем убивать, Анголь Мамалькауэльо,— сказал он,— потому что гложет меня тоска. Может быть, запах смерти встряхнет меня... Может быть, бой избавит от боли и вернет мне гнев. Святое чувство я утратил, Анголь Мамалькауэльо — без гнева нельзя побеждать врага».
Кони с места взяли в галоп. По пути присоединились еще несколько наших, и после недолгой бешеной скачки мы перевели коней на шаг.
«Твою жену убили, Хосе»,— говорит один.
«Я слышал, как она умирала»,— отвечает Хосе.
«А твою еще не убили, Анголь Мамалькауэльо»,— говорит кто-то еще, повернувшись ко мне, но в темноте не видно его лица.
«Что же она сделала, чтобы с ней так обошлись?» — спрашиваю я.
«В твоем доме был их раненый солдат, и она его выходила».
«Ну ладно,— говорит Хосе.— А теперь — в атаку. И помните: кто этой ночью уцелеет, встречаемся завтра здесь же в этот же час».
«Встречаемся? — переспрашивает третий.— Значит, ты не умрешь сегодня, Хосе?»
«Времени у меня на это нет,— говорит Хосе.— У кого впереди еще много дел, тот не имеет права умирать».
Анима Лус Бороа протягивает мне тарелку с супом. Пока мы бродили по лугу, она успела отдохнуть и приготовить обед.
— Я уже рассказываю ему о том, что было с тем раненым, который лежал у тебя в хижине,— говорит Анголь Мамалькауэльо после некоторого молчания.— О том, что было...
— Бедный мой,— говорит Анима Лус Бороа.
— Ты мне этого еще не рассказал,— осторожно говорю я. И долго еще мы едим в полном молчании.
— Случилось это после того, как сгорел дом Хосе,— говорит Анима Лус Бороа.— Тому солдату стало намного лучше, он уже восстановил силы. Одну за другой я извлекла из его тела все дробинки, и раны уже затянулись. Он стал разговорчив и все спрашивал, кто командует нашими людьми, кто такой Анголь Мамалькауэльо и откуда у нас столько оружия. На все вопросы я отмалчивалась.
В то утро я проснулась от его стонов. Услышала, как он встал и долго ходил. Потом прошел на мою половину:
«Голова очень болит. Ничего не могу поделать с этой болью. Нет у тебя какого-нибудь средства помочь мне?»
Я отобрала несколько пучков разных трав. И сказала:
«Потерпи немного. Чтобы помочь тебе, надо сделать отвар вот из этих трав».
Я сделала отвар, нацедила его в чашу и поставила у ложа из шкур — там, где он обычно лежал. Он схватил меня и ударил чем-то тяжелым по голове — палкой или камнем, не знаю. Я потеряла сознание. Все остальное было совсем просто... Я лежала без памяти, ничего не чувствовала. Но когда пришла в себя, то знала уже, что произошло. Было такое чувство, что всю меня оплевали. Я попробовала шевельнуться и невольно застонала. Он стоял спиной ко мне и, услышав стон, обернулся. Я не знала, сеньор, что во взгляде даже самого страшного человека может быть столько жестокости.
«Не вздумай тут шевелиться, индейское отродье,— сказал он.— Или, клянусь, я размозжу тебе голову».
Я не обратила никакого внимания на его слова. Кое-как доползла я до своей комнаты и там улеглась на шкуре — встать не было сил. Он пошел следом и ударил меня ногой.
«Спасибо, насильник,— говорю я ему на это.— Спасибо, выродок. А ведь это я подобрала тебя, умирающего, в лесу».
«Тебе, дуре, гордиться надо,— смеется он в ответ.— Белый человек снизошел до грязной индейской подстилки. Всю жизнь вспоминать еще будешь, какого благодеяния удостоилась».
«Тебя нет и не будет в моей памяти,— говорю я.— И в памяти моего тела — только боль от твоих ударов».