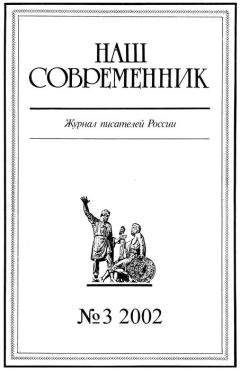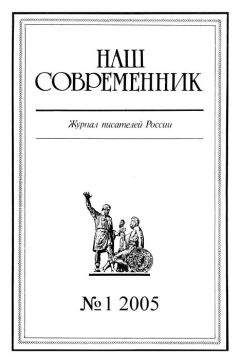О, как им хотелось туда проникнуть, внутрь! Ведь знали уже: в доме все мертвы. Но очень хотелось. Трупы хотелось показать, разлагающиеся тела — всю, видите ли, правду.
Мы и здесь узнали этот их папараццистский зуд — желание приникнуть к дверной щели, к замочной скважине. Желание «позырить» на запретное — на тайну, все равно, тайна это смерти или тайна соития, зачатия будущей жизни.
Показывая на экранах с маниакальным упорством все тот же мрачно молчащий, неприступный для них люк, они выдали себя с головой: ну, какой там правды? — скандала ой как хочется! Ой как хочется смерть показать! И ведь вроде бы постоянно ее показывают, особенно в Чечне и особенно по изуверским «исходникам» палачей. Но чеченская уже и самим приелась, а тут новенькая, подводная.
Вот где надобность вернуться к определениям папараццизма, принадлежащим Федерико Феллини. Своим студентам на занятиях я уже не первый раз показываю два фрагмента из картин величайшего кинохудожника XX века: из «Сладкой жизни» и «8 с половиной».
Не без удивления, кстати, выясняешь, что о Феллини молодые люди знают лишь понаслышке. Для них это старье, бабушкин хлам. Но мне важно убедить их (и удается), что Феллини вовсе не устарел, что он очень многое сумел предугадать — лет за тридцать, за сорок до того, как мы здесь с этим столкнемся. На то он и гений, способный в одиночку перевесить почти весь Голливуд. Вообще, скажу попутно, я глубоко убежден, что в кино ушедшего века первенство принадлежит Италии, ее мастерам, которые подтягивались, кто как сумел, к уровню Феллини. (Да, кстати, и в американском кино многие из лучших работ — заслуга выходцев из Италии, итальянских по крови актеров и режиссеров.)
Папарацци в «Сладкой жизни» едва заметен. Но вот что удивительно: сейчас, за давностью лет, даже специалистам трудно, думаю, быстро вспомнить имена главных киногероев картины, хотя в ней играли и Мастроянни, и Анук Эме, и Анита Экберг, а вот второстепенный Папарацци не забыт. Мало того, в девяностые годы на Западе даже вышло два художественных фильма, в чьих названиях присутствует его вошедшее в бытовой тираж имя.
В «Сладкой жизни» Папарацци, как правило, всегда в толпе таких же, как сам он, назойливых молодых людей, что носятся по Риму в поисках сенсаций и скандалов. Пожалуй, он даже сошел бы за доброго малого, если б не один эпизод, в котором Феллини весь свой гнев сосредотачивает на своре шустряков, почуявших запах смерти. Это эпизод, когда главный герой картины узнает о самоубийстве своего приятеля — ученого по фамилии Штейнер. Причем самоубийство сложное — Штейнер, прежде чем застрелиться, убивает двух своих маленьких детей.
Папарацци пытается вслед за главным героем проникнуть в квартиру Штейнера, но там уже работает полиция, там свой фотограф-криминалист, который, как известно, прессе не товарищ. Фоторепортеры на улице поджидают жену, точней, уже вдову Штейнера, ничего пока не знающую о случившемся. И, когда женщина выходит из автобуса, набрасываются на нее, щелкая своими аппаратами, прямо с каким-то сладострастием, будто мухи на мясо. Они, по метафоре Феллини, и ее тем самым как бы расстреливают. Но при этом до смерти покрывают позором свое занятие.
Феллини еще раз возвращается к теме журналистской наглости, пограничной с патологией. В «8 с половиной» тоже представлена журналистская братия, там тоже орудует большая группа людей типа папарацци. Их бессовестное вгрызание в душу больного героя оканчивается его самоубийством. Это они его в конце концов доводят, от них он прячется под стол во время пресс-конференции, на которую его притаскивают силком. Сцена этой злополучной пресс-конференции поистине фантасмагорична. Именно к этой сцене режиссер подтягивает все-все свои гротескные средства. Лица журналистов, распаленных наглыми, издевательскими вопросами, искажены какими-то дьявольскими гримасами. По сути, они и готовят убийство. Им не ответы на вопросы нужны, им нужна свежая, горячая кровь. Разве не ясно: они — сущие вампиры, — подсказывает Феллини.
И все-таки волей своей великодушной фантазии автор картины спасает героя от погибели. То, что мы видим в финале — это как бы жизнь после смерти: все — живые и давно умершие — соединяются в соборе любящих и прощающих друг друга людей. Но, заметим, никого из репортеров в этот круг режиссер не допускает.
Всемирное торжество папараццизма
И все же, кому слышны сегодня предупреждения Феллини, кого устыдил или охладил его гневный сарказм? Кто вразумлен его прорицанием: «Осторожно, грядут папарацци!»?
Мы видим: папараццизм победоносно шествует по странам и континентам. Он востребован миллионами. Его внушениям подвергается сегодня все человечество. Даже те, кто прячутся в пустынях, в отшельнических кельях. Или укрываются от назойливых щелкоперов и щелкунов в королевских дворцах.
Казалось бы, прямая причастность западных папарацци к гибели принцессы Дианы должна была наконец вразумить публику. Но ничего подобного не случилось. Да и не могло случиться, потому что сама Диана слишком нуждалась в шумихе, поднимаемой вокруг нее прессой. Она уже была наркотизирована скандальной атмосферой, ей уже шагу ступить было невмоготу без этой назойливой и одновременно льстящей ее существу Дианиады. До самых гибельных секунд сопровождал ее черный мрачный эскорт, унюхавший неминуемость беды. В негласном договоре, который, конечно же, существовал между принцессой и некрофильской свитой репортеров, все было хладнокровно и цинично согласовано, вплоть до главного пункта: «Быть вместе до конца». Безумной бабочкой летела она на эти подмигивающие огни. И не могла не сгореть в них. Гибель, которую попытались было представить чуть ли не трагедией века, оказалась лишь триумфом папараццизма, подтверждением того, что он дорос до вершин могущества и способен вовремя поставить точку даже в конце такой прихотливой игры.
Еще одной блестящей победой папараццизма стал, как мы все убедились, скандал «Клинтон — Левински». Победой тем более искусной, что тут в качестве виртуозного папарацци действовала уже сама «пострадавшая». Аудитория подглядывающей публики оказалась колоссальной. Кто следил за сюжетом с омерзением, кто «болел» за унылого красавчика Билла, кто жаждал победы правосудия, но все в равной степени п о д г л я д ы в а л и. Что и требовалось доказать авторам невиданного до сих пор шоу. В итоге очки заработали и сластолюбивый президент, и авантюристка Моника, и, конечно же, беспристрастное демократическое правосудие, разделившие победу с создателями папараццистского сценария. Зато в дураках остались миллионы побежденных, которые поддались соблазну подглядывания за тем, что у них там наверху творилось.
По такому точно папараццистскому проекту развивались события и у нас дома — в случае со Скуратовым. Нет, не он потерпел поражение, не прокуратура понесла урон, а все мы, кого бес попутал глазеть на нелегально отснятую «клубничку», как если бы таращились в щелку бордельной двери. Хотели того или нет, но нас мигом сделали соучастниками папараццистской акции. Мы влипли, а они победили.
Такое происходит гораздо чаще, чем мы успеваем догадаться. Вирусом неприличного подглядывания заражен сегодня к а ж д ы й телезритель, не умеющий отличить простого зрелища от зрелища пошлого и подлого. Оказывается, заурядным папарацци можно стать помимо своей воли, даже если ты не вооружен ни фотоаппаратом, ни кинокамерой. Чтобы оказаться в числе завербованных, не нужно, получается, подписывать никаких контрактов, никаких не нужно тайных посвящений. Достаточно включить телевизор и попасть на программу «Про это». Или купить утром в метро номерок «Московского комсомольца» и прочитать внизу на первой полосе хронику криминальных происшествий.
Так начинается стихотворение Марины Цветаевой, одно из самых гневно-обличительных в ее творчестве.
Цветаевский «подземный змей» — всего-навсего поезд метро. Наверное, парижского метро, как я догадываюсь. Но и нашего. Всякого. Видимо, во всех метро мира пассажиры, спеша по утренним делам, заглатывают, скуки ради, газетные новости. По моим наблюдениям, большинство москвичей, шуршащих в вагонах прессой, предпочитают именно «МК». Стихотворение, которое появилось на свет, кажется, еще до московского метрополитена, написано прямиком про наши дни.
Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей,
И каждый со своей
Газетой (со своей
Экземой!). Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет…
Кача — «живет с сестрой.»
ются — «убил отца!»
Качаются — тщетой
Накачиваются.
Я не встречал в нашей поэзии большего негодования и презрения при виде ежедневного акта вкушения и разжевывания газетной жвачки. Может быть, именно этой резкостью Марины Цветаевой объясняется, что цитируемое здесь «Читатели газет» — стихотворение сравнительно малоизвестное, в том числе в студенческой среде, где нет отбоя от признаний в любви к ее стихам. Скажут: срабатывает инерция старого отношения к Цветаевой, поскольку в советские времена регулярное прочтение газет считалось таким же обязательным ритуалом, как умывание или утренняя гимнастика. Но в советские времена, поправлю я, газеты наши не были еще переполнены всей этой криминальной жвачкой, которую мельком, брезгливо, но очень выразительно характеризует поэтесса. Она поминает самое обычное, что тогда, в 20-е или 30-е годы, регулярно заглатывал западный «жеватель мастик»: уголовную хронику, причем не всякую, а чрезвычайные происшествия, сильнее бьющие по голове. Производящие в ней полное опустошение: