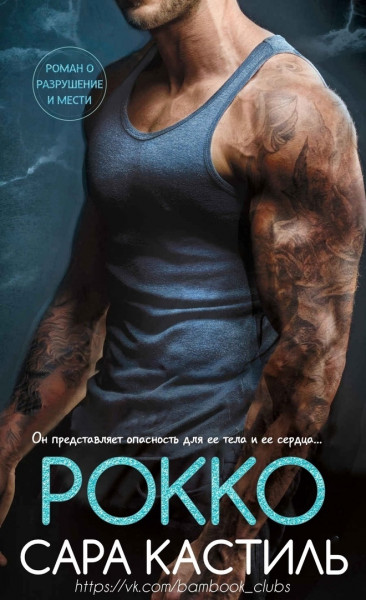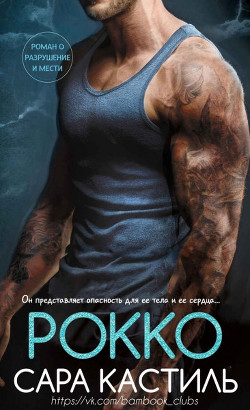вши и гниды толстые, упитанные. А ты идёшь, дурень дурнем, и о погибели своей не знаешь. Остановись, одумайся, на кой сдались тебе эти два дебила, они — карты битые, они своё дело сделали».
Но душил в себе этого демона наш герой, беспощадно душил, так как знал имя его. А имя у него — страх. Но трезвая мысль вселяла в Пиноккио уверенность, он думал: «Оно, конечно, ничего плохого с братьями не случится. Ну, осудят их на год, на два. Ну, отсидят они. Но без них я себя буду чувствовать неуверенно. Да и как вырастит моя репутация, если я их из тюрьмы выручу⁈»
Два этих слагаемых перевесили и страх, и осторожность. И пошёл наш герой, задушив демона, походкой твёрдой, а уверенность ему придавала тяжёлая гора медяков, что сжимал он в кулаке. Пиноккио открыл дверь, и в нос ему ударил знакомый неприятный запах немытых человеческих тел, в изобилии потреблявших алкоголь. Эти тела, как обычно, были определены за решётку и в основной своей массе вели себя спокойно. Некоторые из них, спокойно упав на пол, отдыхали, другие пьяно пытались уцепиться тощими задами за узенькую скамейку у стены. Но некоторые тела, напротив, были возбуждены.
Два вовсе не пьяных человека, Серджо и Фернандо, прилипли к решёткам и, ничего не говоря, таращились на полицейских, снующих по околотку. Также к решётке прилип ещё один синьор. У синьора было огромное пузо, расквашенный нос и шляпа-котелок. Он платком вытирал кровь с лица и вопрошал, особо ни к кому не обращаясь:
— Я вам что, гамадрил конголезский, в клетке меня держать, с вот этими гориллами, — синьор явно намекал на Серджо и Фернандо, — это во-первых, а во-вторых… А во-вторых… — синьор, видимо, забыл, что должно быть во-вторых, он некоторое время озирался, ища подсказки, и вспомнил, — а, да! Дайте мне коньяка или мадеры, на худой конец.
— Вот я тебе сейчас дубинкой дам, а не коньяка, — беззлобно пообещал один из полицейских.
— О, дайте, дайте мне свободу! — басом запел синьор. — Я свой позор сумею искупить!
— Ты свой позор сможешь искупить только десятью сольдо штрафа, — прозаично заметил дежурный полицейский, — как искупишь, так сразу дадим тебе свободу.
— О, алчности сыны, вам имя Корыстолюбие и золото ваш крест, ему вы гнёте выю и падаете низ. Вы кровь из жил людских всю высосать готовы, лишь только б в золото она бы обернулась, — пузатый синьор декламировал стихи со страстью, и в месте, где речь шла про кровь, он всем присутствующим продемонстрировал свой окровавленный платок.
— Вы, синьор, давайте-ка тут не преувеличивайте, — сухо заметил полицейский, — мы никакому кресту никакие выи не гнём. А золота нам никакого не нужно, а нужны обыкновенные медные десять сольдо, чтобы вы в следующий раз мочились в отведённых для этого местах. Вот так-то вот.
— А если таких мест поблизости нету? — возмутился пузатый синьор.
В эту минуту из своего кабинета быстрым шагом вышел околоточный и с присущей ему энергичностью тут же вступил в дискуссию:
— Так-с, что такое?
— Да вот, — пояснил ему дежурный, — синьор помочился в непредусмотренном месте, а сам говорит, что мы золоту выи гнём.
— Что такое? — околоточный не по-доброму прищурился и поближе подошёл к клетке, чтобы рассмотреть наглеца. — Вы, любезный, на что намекаете? В каком таком плане мы выи гнём?
— А зачем вы требуете штраф? — не испугался пузатый синьор, он, вообще, был человеком боевитым и понравился Пиноккио. — Ответьте мне, раз вы не гнёте, зачем вам штраф?
— А зачем вы мочитесь, где ни попадя? — не смутился околоточный.
— А что же мне, лопнуть, что ли?
— А что же, мочиться, где заблагорассудится?
— А что, лопнуть, что ли?
— А что же, мочиться, что ли?
— Это возмутительно, — возмутился синьор в котелке, — деньги берут бешеные за такую невинную малость. И главное: деньги берут, а туалеты не строят. Ответьте мне, как налогоплательщику, где в нашем городе туалеты?
— Ой, только вот не надо вот этого, не надо. Не надо политического экстремизма, — околоточный даже помахал указательным пальцем перед прутьями, за которыми находился разбитый нос синьора. — В нашем городе — три! — синьор Стакани сделал акцент на этой цифре, чтобы вся грациозность и масштаб городского туалетостроения дошли до заключённого. — Три общественных туалета. На рынке — раз, — околоточный стал загибать пальцы, — на вокзале — два, в порту — три. Вам мало?
— А если я не был на базаре, в порту или на вокзале?
— Не смейте свинячить нигде, где это не положено.
— А что же мне лопнуть, что ли? — продолжал злиться синьор в котелке.
— Позвольте заметить, — вставил дежурный, — лопанье в общественном месте — акт, законом не преследуемый, и штраф за это не полагается. А вот за исправление естественных потребностей — штраф десять сольдо.
— Вот, — околоточный важно поднял палец к небу. — Это закон! А у вас, кстати, как у всякого порядочного человека, был выбор, сударь мой, либо свинячить, либо… — тут синьор Стакани задумался, так как не знал, что можно противопоставить в данной ситуации слову «свинячить».
— Либо лопнуть, — договорил за околоточного оппонент.
— А, может, даже и лопнуть, — с пафосом произнёс синьор Стакани, — но с достоинством. С достоинством!
— Боже мой, какое ханжество! — возмутился синьор в котелке. — Вы-то сами думаете, что говорите. Как это можно обмочить штаны с достоинством?
— А вот и можно, — упрямствовал Стакани.
— О, ханжество, ты лицемерию сестра. Ум изворотливый толкует догмы и законы, сам в похоти и страсти преступая их. Но бдителен и строг ко всем, кто их преступит так же.
— Прекратить! — рявкнул околоточный, свирепо выпучив глаза.
— Вот так всё время, доложу я вам, — заметил дежурный полицейский, — как начнёт гадости про выи говорить, так аж мурашки по коже.
— Вы мне тут про ханжество и преступление законов не намекайте, — зашипел Стакани, — поглядите на него, каков гусь! Сам мочится, где вздумается, а сам ещё намекает, наглость какая! Платите десять сольдо штрафа или получите у меня пять суток.
— Но у меня нет при себе денег, — произнёс пузатый синьор. — Отпустите