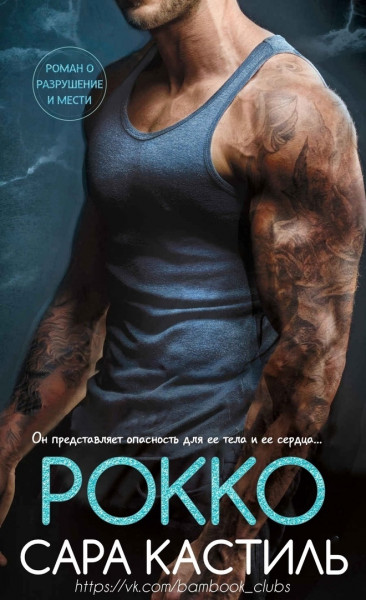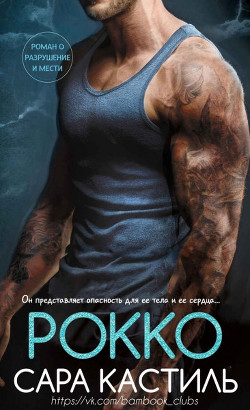Стакани чуть не поперхнулся.
— А я, — улыбался Пиноккио, — всегда на вашей стороне. И поверьте мне на слово, ни один журналюга не осмелится встать у нас с вами на пути. На пути нашего, так сказать, сотрудничества.
— А если встанет? — недоверчиво спросил Стакани. — Ты даже представить не можешь, что сделает моя жена за одно упоминание моего имени вместе с именем этой страшилы Аграфены, — околоточный даже поморщился, представив эту картину.
— А слухи по этому поводу ходят, — соврал Буратино.
— Интересно, какая свинья распускает такие слухи? — усы у околоточного даже задёргались.
— Насчёт свиньи мне ничего неизвестно, — признался Буратино. — Насчёт того, что сделает ваша жена, тоже. Могу сказать только одно: дальше нас с вами эти разговоры не пойдут.
— Моя жена меня просто отравит, — продолжал околоточный, — или зарежет спящим. Это в зависимости от настроения. С каждым годом вымолить у неё прощение, даже за невинный взгляд в сторону другой женщины, становится всё сложнее. Да, но какая свинья распускает эти сволочные слухи?
— Не давайте им повода, — сказал Пиноккио, чувствуя, что дело почти сделано. — Отпустите наших ребят — и всё обойдётся.
— Я что-то не пойму, а какое отношение имеют твои ребята к этой мерзости про меня и Аграфену? — стал размышлять вслух Стакани.
— Не забивайте себе голову, поверьте мне на слово, всё будет нормально.
— Да, — задумчиво произнёс Стакани. — Я и Аграфена! Надо же такую пакость выдумать, да у неё из родинки, что на бороде, щетина выросла в палец длиной. А эти её подбородки… Фу, какая мерзость.
— Ну так что, отпускаете? — спросил Пиноккио.
— А журналисты, ведь подлецы из подлецов, — продолжал околоточный. — Ведь заскрипят своими пёрышками, заухмыляются, сволочи.
— А мы по их ухмылкам да ботинком, чтобы зубы захрустели, — сказал Буратино весьма кротко.
— Это правильно, — согласился околоточный. — А кто, собственно говоря, мы?
— Я и мои ребятки, что у вас в клетке сидят. Ни за что, между прочим.
Околоточный долгим взглядом смерил мальчика, а тот сидел честный такой, ясноглазый, уши в разные стороны, ангелочек, в общем.
— Ладно, — наконец произнёс полицейский, — забирай своих дебилов, но смотри у меня, — он пригрозил пальцем, — чтобы без фокусов.
— Не извольте беспокоиться, в следующий раз будем осторожнее, — сказал Буратино и вышел из кабинета.
После того, как он вышел из кабинета, околоточный встал из-за стола и стал прохаживаться из угла в угол, делая физические упражнения. Деньги, оставленные мальчишкой, он сгрёб и, не пересчитывая, ссыпал в карман. Настроение у него сразу повысилось, и офицер даже стал напевать неприличную песенку про пастуха и белую козочку. Как вдруг в голову ему пришла мысль:
— Чёрт меня дери, — пробормотал Стакани, — а ведь я этого носатого поганца сам хотел в клетку посадить. Вот ведь подлец, как мастерски умеет мозги закрутить со своими людовиками и сплетнями про Аграфену. Нужно за ним приглядывать.
Но тут другая мысль пришла в голову околоточному, более интересная.
— А не поехать ли мне к девкам? — самого себя спросил Стакани, зная заранее ответ. — Решено, еду к девкам и напьюсь. Ох, что мне будет дома за это!
А пока околоточный прикидывал, что ему будет дома, если он напьётся у девок, в участке происходило следующее: Пиноккио подошёл к дежурному полицейскому и произнёс:
— Многоуважаемый синьор полицейский, будьте так любезны, освободите вот этих двоих людей, с его благородием всё уже согласовано.
Полицейский сурово и с недоверием поглядел на мальчика и, не сказав ни слова, пошёл к околоточному, чтобы выяснить, так ли это на самом деле или этот деревянный пацан врёт. Когда он ушёл, Буратино обратил внимание на пузатого синьора, который всё ещё сидел за решёткой и по-прежнему декламировал стихи:
— Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой.
— Если честно, вы не очень-то напоминаете молодого орла, — заметил Пиноккио.
— А вы что, орнитолог? — осведомился синьор в котелке.
— Нет, но, тем не менее, мне почему-то кажется, что невозможно в неволе наесть такое чрево, как у вас.
Синьор укоризненно посмотрел на мальчика и ответил:
— Милый носатый юноша, легко вам скалиться, когда я сижу за решёткой, а вы находитесь вне её. Будь всё иначе, ваш великолепный оскал не имел бы такого великолепия.
— Оскал у меня и вправду неплох, — согласился Буратино. — Рад, что вы заметили. Впрочем, всё это диалектика, а вот стихи мне ваши понравились. Особенно про крест и выи. И про орла неплохо.
— Это, увы, не мои стихи. Эти стихи написали синьоры, которых уже нет.
— Всё равно, неплохо.
В это время вернулся дежурный. Не глядя на Пиноккио, он отпёр клетку и произнёс:
— Дебилы, на выход!
Серджо и Фернандо, которые стояли чуть дыша в ожидании своей участи, с радостными воплями кинулись из клетки. Под шумок из клетки попытались выскочить двое пьяных, но полицейский был бдителен и, нещадно лупя этих двоих дубинкой, вернул их обратно, приговаривая:
— Я сказал, дебилы, на выход, а не скоты. С вами ещё разбираться будем.
Братья подбежали к Буратино и, удивляясь собственной фамильярности, стали его обнимать:
— Ах, синьор Буратино, а мы-то думали, нам тюрьма.
— Ох, думали.
— А тут видим — вы.
— Мы-то обрадовались. Думаем, вот пришёл синьор Буратино, он нас отсюда вытащит, он всё может.
— Ладно-ладно, ну, что вы, в самом деле, — засмущался Пиноккио, — хватит вам, пошли на улицу.
Они были уже готовы идти, но тут Буратино окликнул синьор в котелке:
— Эй, любезный юноша, как вас там, Буратино, что ли?
— Я вас слушаю, — откликнулся Пиноккио.
— Раз вы такой волшебник, что даже вот этих из-за решётки вытащили, может быть, и мне поможете?
— Вам? — удивился Буратино. — А основание?
— Человеколюбие.
— Вы серьёзно?
— Абсолютно и, главное, вам это ничего стоить не будет. Найдите мне десять сольдо и я вам верну их, как только выберусь отсюда.
— Десять сольдо я, может быть, и найду, а вот найду ли я потом вас? — спросил Пиноккио.
— Это невежливо с вашей стороны, меня знают все. Я — Джованни Перуцио, мне все верят.
— Да? —