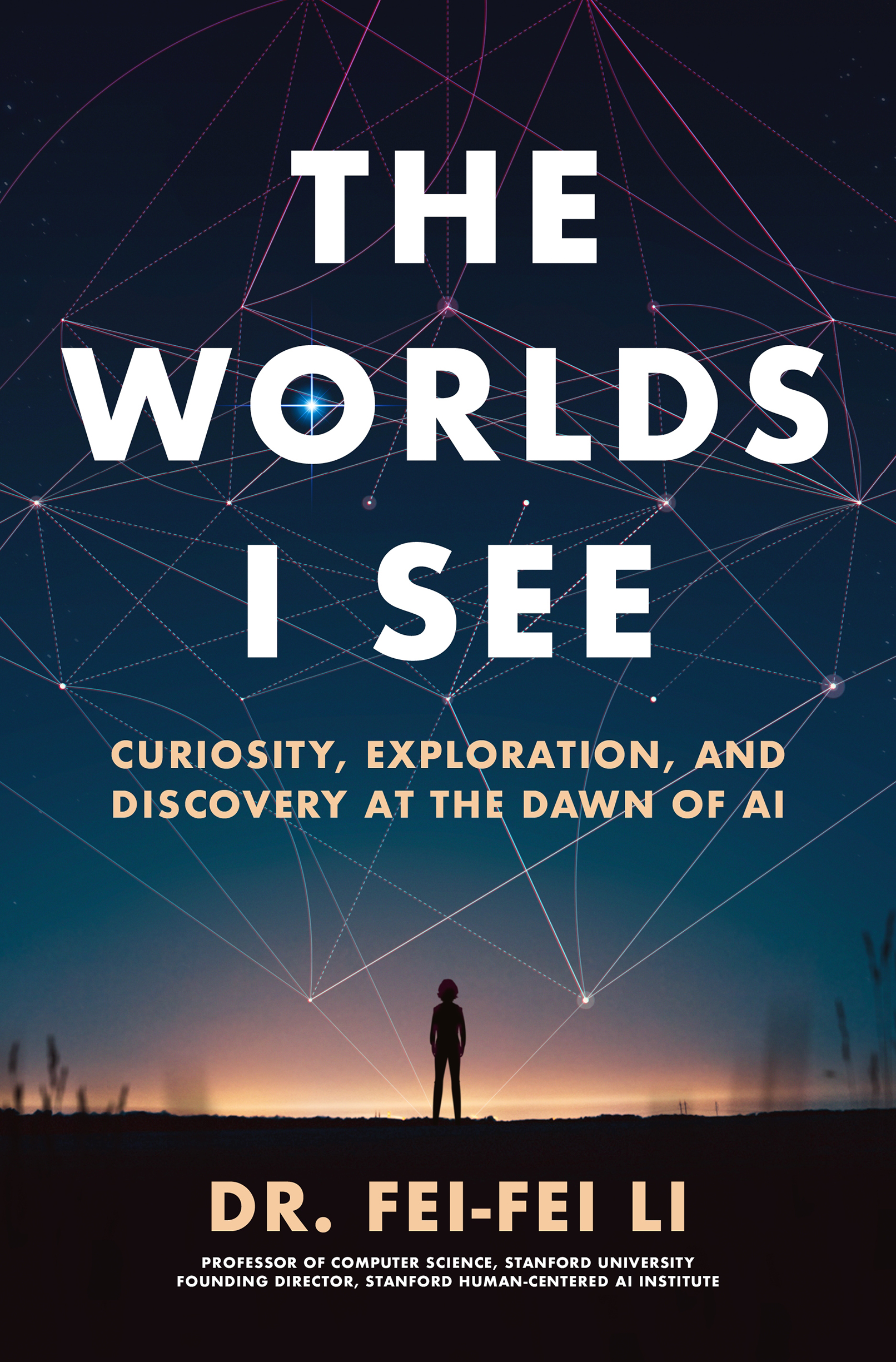обычно делают дети.
Хотя я родился в Пекине, я вырос более чем в тысяче миль от него, в Чэнду, столице провинции Сычуань. Номинально это был дом семьи моей матери, хотя они приехали туда недавно. Родом из Ханчжоу, расположенного недалеко от прибрежного Шанхая, они, как и тысячи других, бежали из своих городов, разрушенных Второй китайско-японской войной в 1930-х годах. Они были благодарны за то, что выжили, но у них осталось неизбывное чувство перемещения, которое не покидает их и спустя поколение.
Мой дедушка по материнской линии был особенно склонен к болезненным размышлениям о жизни до потрясений; будучи звездным студентом с многообещающим будущим, он был вынужден бросить учебу, чтобы поддержать свою семью, даже когда они погрузились в многолетнюю нищету. Это неразрешенное напряжение он будет носить в себе десятилетиями и передаст своим детям. Со временем оно охватило и меня: тупое, бессловесное чувство, что дом - да что там, сама жизнь - лежит где-то в другом месте.
Хотя Чэнду - древний город с богатым наследием, город моего детства был одой центральному планированию советского образца, построенный на ряде концентрических, кольцеобразных дорог, служащих своего рода муниципальными лесами, простирающимися во всех направлениях к сельской местности. Рост был и вертикальным: здания однообразного дизайна, но постоянно растущие в высоту, устремлялись все дальше и дальше в багровое небо, покрытое почти постоянным туманом, и были зажаты окружающим бассейном.
Архитектура, простиравшаяся от горизонта до горизонта, отличалась плотностью масштаба, но банальностью духа; это был мир, построенный из кругов, прямоугольников и дисциплинированной палитры серых и коричневых тонов, которую с ритмичной предсказуемостью подчеркивали смелые красные цвета пропагандистских плакатов, грубо вплетенные в отчетливый индустриальный стиль. Конечно, корни города все еще можно увидеть в узких улочках с низкими крышами, покрытыми черепицей, в окружении открытых двориков и зеленых насаждений. Тем не менее, с высоты птичьего полета тенденция была очевидна. Как будто утилитаризм был возведен в ранг городского искусства, а строгость его поверхности скрывала неуемные амбиции, которые еще только зарождались.
Но даже в стране, стремящейся к современной картине 1980-х годов, в городе, построенном для того, чтобы расширяться, детский взгляд на мир провинциален по своей природе. Его горизонты близки и круты, допускают лишь намеки на то, что лежит за пределами. Чтобы увидеть дальше, к тем границам, которые ждут впереди, необходимо особое влияние.
Самый высокий комплимент, который я могу сделать своему отцу, одновременно является и самой уничтожающей критикой: он именно такой, каким бы он получился, если бы ребенок мог сконструировать своего идеального родителя в полном отсутствии контроля со стороны взрослых. Хотя он был красив и аккуратен, в очках в роговой оправе, которые соответствовали его образованию инженера-электрика, и с густыми волнистыми волосами, придававшими ему вид молодого актера или поэта-битника, его внешность скрывала черту, которая определяла его больше всего: аллергию на серьезность, которую можно описать только как патологическую. В нем жил неприкаянный подростковый дух, и он не столько отвергал обязательства взрослой жизни, сколько казался искренне неспособным их воспринять, как будто ему не хватало какого-то основного чувства, которое естественно для всех остальных. Он был достаточно причудлив, чтобы представить себе, как он везет свою дочь по забитым улицам в велосипедной коляске, достаточно безрассуден, чтобы построить ее с нуля, и достаточно проницателен, чтобы заставить ее работать, позволяя мне сопровождать его в частых поездках в городские парки или за город за его пределами. Там мы часами занимались его любимым делом: охотились за бабочками, наблюдали за водяными буйволами, отдыхавшими на затопленных рисовых полях, или ловили таких существ, как дикие грызуны и насекомые-палочники, чтобы потом ухаживать за ними дома в качестве домашних питомцев.
Даже на расстоянии было очевидно, что традиционная иерархия родителей и детей между нами отсутствует, поскольку он вел себя скорее как сверстник, чем как отец, не обремененный отцовскими неврозами. И хотя я мог сказать, что он с радостью делится со мной впечатлениями от наших прогулок, по его сосредоточенности - как радостной, так и близорукой - было ясно, что именно так он и проводил бы свои дни, будь у него дочь, сын или вообще нет детей. Но это делало его пример еще более убедительным. Сам того не зная, он демонстрировал мне любопытство в его чистом виде.
Эти поездки не были особенно познавательными - мой отец был любителем природы, а не знатоком ее, - но они заложили семена философии, которая сформировала мою жизнь больше, чем любая другая: неутолимое стремление к поиску за пределами своих горизонтов. Они показали мне, что даже в таком месте, как Чэнду, лабиринте из мостовых и бетона, всегда можно открыть для себя больше, чем то, что лежит передо мной.
Ни один момент не демонстрирует характер моего отца - в равной степени игривый и раздражающий, легкомысленный и умный - лучше, чем его роль в моем рождении. Это был трудный день, как мне потом рассказали, он находился за тысячу с лишним километров от Чэнду на втором этаже больницы в Пекине (недалеко от дворца Запретного города), где жила его семья. Но он прибыл с опозданием - до абсурда поздно - не из-за пробок на дорогах или каких-то непредвиденных обстоятельств, а потому что был настолько поглощен импровизированным днем наблюдения за птицами в местном парке, что совершенно потерял счет времени. Однако среди его многочисленных причуд была склонность к игре слов, и это испытание заставило его вспомнить мандаринское слово fēi, означающее "летать". Его причудливые коннотации, усиленные его птицеподобным изображением на упрощенном китайском языке, сделали "Фей-Фей" естественным выбором для моего имени. Оно было унисексовым, что отражало его безразличие даже к такой фундаментальной для культуры идее, как пол, и было достаточно редким среди моего поколения, чтобы понравиться его нестандартным чувствам. Но это был и его первый родительский вклад, незатейливый и милый. И хотя его собственная взбалмошность не завоевала симпатию моей матери, она признала, что ей тоже нравится это имя.
Если мой отец был ответственен за размах моего любопытства, то именно моя мать задала ему направление. Как и его, ее личность возникла из напряжения между тем, кем она была, и тем, кем мир ожидал ее видеть. Но если он был ребенком, затерявшимся в теле взрослого, то она была интеллектуалом, попавшим в ловушку навязанной посредственности. Рожденная с яростным умом в явно интеллектуальном роду - ее родная бабушка была среди первого поколения женщин, посещавших колледж в конце правления династии Цин, - она с детства стремилась не просто