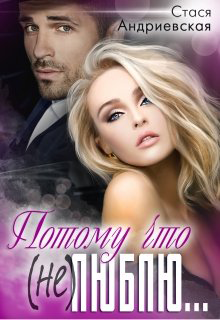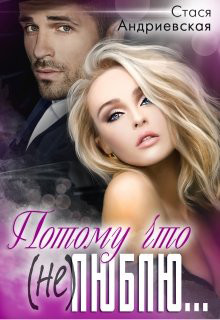острым отчаянием, потом снова надеждой и снова полной деморализацией. Я запрещала себе думать о том, что муж сейчас, возможно, всё ещё в Воронеже… но всё равно думала. Отчаянно злилась и в то же время тосковала по нему, но, когда он звонил, впадала в коматоз, и не знала, как и о чём с ним говорить. Отписывалась СМСками о том, что прямо сейчас не могу ответить, потому что на процедурах, хотя сама, честно сказать, безбожно их прогуливала, с утра до вечера либо бессильно валяясь в кровати, либо отсиживаясь на скамейке в дальнем уголке санаторного парка.
Не хотелось никого ни видеть, ни общаться. Но едва выходила в парк, как рядом неизменно оказывался этот садовник, или кто он там, который подошёл ко мне в тот раз ночью. И, как ни странно, его присутствие помогало отвлечься. Ему было лет двадцать пять, аристократичная внешность, довольно длинные, почти по плечи, гладко зачёсанные назад волосы. Аккуратный, деликатный иностранец с хорошим русским и забавным мягким акцентом. На разнорабочего из обслуги походил с огромной натяжкой, но тем не менее, работал именно помощником садового дворника. Я ему нравилась как женщина, это было заметно по его взглядам и желанию быть рядом. И это было и смешно, и горько, учитывая нашу разницу в возрасте и, особенно, мою личную ситуацию с мужем.
А через два дня Никита Сергеевич предоставил первые отчёты: Данилу в Воронеже действительно застал, хотя в тот же вечер он уже уехал. Мальчик по указанному адресу тоже имеется, и действительно называет моего мужа папой. А тот его — сыном…
— Мать ребёнка, Александра Морозова, восемьдесят седьмого года рождения…
— Погодите! — едва ли не простонала я. Не хотела знать кто она и насколько моложе, как и то, где они с моим мужем познакомились, и по какому сценарию развивался их роман. Это было выше моих сил! Мне бы просто не разреветься раньше времени. Не выдать свои истинные чувства. У меня ведь сейчас окончательно рухнуло вообще всё, на что ещё можно было хоть как-то опереться, и узнавать на этом фоне о преимуществах соперницы — это чистое безумие либо мазохизм. — Я не хочу ничего про неё знать. Узнайте про ребёнка и хватит.
— Что именно вас интересует?
— Дата рождения. Это возможно выяснить?
— Думаю да. Дайте мне пару дней.
Справился раньше. А потом, узнав, я целые сутки просто сдыхала. Всё оказалось так… сложно. Лучше бы Данила просто предал меня, да и дело с концом! Может, тогда я смогла бы просто разозлиться и возненавидеть его, и это дало бы мне сил поставить точку. Но получалось, что ненавидеть не за что. Как и злиться. Мне вообще оставалось только выть от боли и отчаяния, и кусать локти — у моего мужа была вторая семья, но я не могла его в этом винить… Потому что сама была в этом виновата.
Это ведь я методично, день за днём убивала нас. Тогда мне было всё равно чем всё это закончится — после гибели Владюшки я не могла жить сама и не давала жить Даниле. Я не видела ни просвета, ни смысла, и поэтому уничтожала себя во всех и всех в себе. С маниакальным упорством вызывала ненависть и отторжение к себе, одновременно пропитываясь этой ненавистью ко всем, кто рядом. А рядом неизменно был Данила.
Алкоголь — скандалы, скандалы — алкоголь. Загулы по клубам. Сомнительные компании. Я иногда даже не помнила, как оказалась дома, просто знала, что меня в очередной раз нашёл чёрте где и вытащил непонятно из какой дыры муж. Наутро было стыдно и вместе с этим непрестанно больно от зияющей на месте сына пустоты в душе, и я снова, словно больная бешенством сука, заглушала этот стыд и боль непрестанными, жестокими нападками на мужа.
Я видела его боль и горе. Знала, что он держится из последних сил, но… Добивала. Зачем? Я не знала. Я просто была конченой эгоистичной тварью, озабоченной лишь своей болью, потому что лучшего отца, чем Данила представить просто невозможно. Он был волком и львом в одном лице. Он таскал Владьку в зубах, защищал, воспитывал и любил, вкладывал в него душу и каждую свободную минуту жизни. Сколько раз я благодарила Бога за то, что он послал нам именно сына, потому что с его рождением и Данила превратился из вездесущего проныру-ворона в ширококрылого, матёрого орла, и эта сталь характера вливалась в сына, как материнское молоко. Отцовское молоко — можно так сказать?
Как можно было обвинять Данилу в гибели его же смысла жизни?
А я обвиняла. И исподволь всё ждала — когда же он бросит мне в лицо ответное обвинение? Но он не бросал. То замыкался, то орал, то пил, то неделями не появлялся дома — но никогда не бил по больному. И меня это злило ещё сильнее, потому что я чувствовала всю мерзость прущей из меня тьмы, но не могла остановиться. По-хорошему — мне бы тогда в дурке отлежаться, но Данила терпел. И я снова и снова просыпалась дома, в своей постели, не помня, как в ней очутилась.
И когда он не выдержал и бросил в лицо то самое больное, что жгло меня больше всего — тот давний аборт, возможную причину моей низкой фертильности, я поняла — вот оно, дно. И стало вдруг так спокойно! Я словно добилась своего — убила нас. Остались только чужие, не помнящие друг друга тени, непонятно зачем живущие вместе. И я действительно собралась уйти…
А ушёл он. Даже в этом он оказался сильнее. И когда его машина рванула со двора, и в ночи повисла тишина… я испугалась. Как тяжело больной на мгновенье приходит в себя перед смертью, так и я поняла, наконец, ЧТО натворила. Вся эта грязь и яд, которым я так щедро травила всё, что попадалось под руку, были лишь шипами, уродливыми наростами на незаживающей ране души. Это был крик, вой о помощи… И Данила его слышал. Всё это время — слышал. А теперь вот всё. Нет Владюшки, нет Данилы. Ничего. Тогда зачем здесь я?
…А когда очнулась в больнице и первое что увидела — его…
Господи, разве я это заслужила? Чем? За что?
Но Данила был рядом и смотрел на меня с такой неподдельной любовью, что я вдруг поняла, зачем мне жить дальше: чтобы всем бедам назло дать ему то, что он заслуживал как никто другой — ребёнка. Если