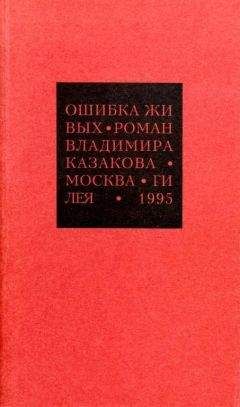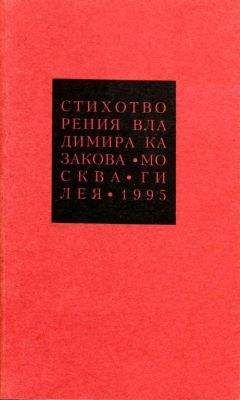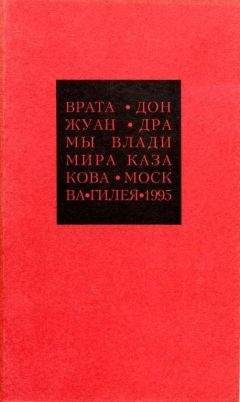ПЕРМЯКОВ
Здравствуйте, Соня!
СОНЯ
Здравствуйте!..Это вы?
ПЕРМЯКОВ
Да, Соня, это я. Пожалуйста, не бойтесь!.. Вы узнали меня по этой скамейке?
СОНЯ
Нет, по лицу... и рукам.
ПЕРМЯКОВ
Ах, милая Соня!.. Но, пожалуйста, пойдемте отсюда скорее! Здесь очень темно... Я так часто думал о вас!..
Мы пошли. Фонарь освещал девушку болезненно-золотым светом. Ее светлые волосы струились к плечам... Большие глаза сверкали, а шаги были почти не слышны.
Мы снова оказались в тесной сониной комнате. На дворе была ночь. Мы не говорили ни слова. Я гладил светлые волосы, пока утро не осветило нашего молчания. Девушка была такой хрупкой! Такие хрупкие секунды звучали из темноты!
И вдруг все исчезло. Я снова оказался один на низкой дворовой скамье. Но я быстро взглянул на небо: оно еще не успело спрятать детской болезненной голубизны!
24 сентября.
Я пользуюсь окном, как часами. Если темно, значит, на дворе ночь. Если светло — день. Если никак, значит — третье. Мне не для кого соблюдать точность.
Вчера я оказался в гостях у Витковских. Мой приход никого не удивил. Зеркала держатся со мной подчеркнуто холодно. Я сел, стал пить чай, держался молчаливо и скромно. В другом углу комнаты теми же качествами отличался Истленьев. Говорили Левицкий, Екатерина Васильевна и Куклин. Эвелины не было. На лицах зеркал было ожидание. Часы отсчитывали минуты ее отсутствия. Какая-то звезда неловко повисла в ночном небе. У Марии темные волосы, бледна, молчалива. Несколько оцепенений стояло вдоль стен. Истленьев беззвучен до полного растворения в воздухе. Отсутствие Эвелины заставляет его грустить. Однажды я видел близко его лицо. Кто он — больной призрак? Странно! Какие могут быть болезни у призраков? Разве что — тучность?..
Я был сдержан, я не проронил ни секунды, ни слова. Обо мне успокоились и забыли.
И вот вошла Эвелина. Часы, зеркала, окна, чай — все пришло в состояние крайнего волнения. Только двое оставались неподвижными: я и Истленьев.
Она всегда входит стремительно и так же исчезает, оставляя пустой мир — без себя, без своих волшебных волос.
Неподвижность Истленьева и моя сковывала зеркала. Наше молчание сковывало часы. Наше мы сковывало остальных. Эвелина оживлена, в ее движениях столько ночи! В ее — столько звезд! Волосы рассыпаются по плечам, глаза зеркал вспыхивают золотым огнем, неловкая звезда срывается с неба... Я смотрю на Истленьева, тут есть на что посмотреть. Он так бледен, что страшно подумать, что он будет еще бледнее.
1 октября.
Я думаю о Соне. Город обращен к дождю железными крышами и каменными мостовыми. Я обращен к дождю... чем? Я иду, наступая прямо в глаза лужам. Я думаю: «День или ночь?» День указывает на часы, часы указывают на ночь.
Захожу в третий этаж к сестре. Жениха еще нет. Сестра не понимает моих вопросов. Тогда я прислоняюсь к стене молчать. Она не понимает. Часы не знают, куда идти. Сумерки, темнота и время сбились в углу. Сестра улыбается неподалеку от себя самой. Откуда у нее взялась эта улыбка? Если спросить — улыбнется. Меня это пугает, я шевелюсь и задеваю темень. Часы начинают стучать.
Я мысленно переношусь в комнату Сони. В комнату со светлыми струящимися волосами, с детской боязливостью окон. Соня улыбается, но ее улыбка — другая. В воздухе дрожит и мерцает болезненная голубизна секунд.
Сестра передвигается по комнате, как слепая. Несколько стен окружают ее. Я не знаю, что мне теперь делать. Смотрю на часы: не знают.
Без стука и без двери вошел жених. Сестра замирает. Он не весь, он что-то забыл. Зеркала в ужасе. Стены держатся друг за друга. Жениху нечем улыбнуться, он выделывает па ногой, он умоляюще движется к сестре. Я принимаю от него шляпу и трость, стена принимает от него странную покалеченную тень, сестра смотрит на него, как зачарованная. Мы движемся по комнате, время хрустит у нас под ногами, окна сверкают у нас за спинами.
Ночь.
11 октября.
Я, невеста, жених. Мы молчим уже которую ночь подряд. Измученные стены окружают нас. Темнеет чай. Звезд нет. Окна — спиной к небу, небо — спиной ко всему.
Я мысленно в комнате Сони. Но Сопи в ней нет. По стенам струится свет, кажется — стены струятся. Я вспоминаю сонины волосы. Окно тянет ко мне лучи, как дитя. Голубизна заставляет сжиматься сердце. Часы чуть слышны. Я один в воображаемой комнате.
Жених поднимается, это ему не удастся, но все-таки он поднялся. Улыбка сестры обходит всю комнату. Как слепая, проходит мимо меня. Я неподвижен так, что у меня каменеют мысли.
Соня появляется, но не в своей комнате, а на улице, под холодным небом. Невидимый, я следую за ней вдоль незнакомых домов. «Соня!» — слышит она. Голос — не мой. Она останавливается и смотрит. Вся залитая фонарем, призрачная, с тонкими руками — я вижу ее так отчетливо, что реальный мир в ужасе начинает пятиться от меня.
13 октября.
Я очнулся на улице, под дождем, утром. Был холод и ветер. Редкие прохожие спешили по улицам, сверкая мокрыми булыжниками мостовых.
У Витковских вечерами собирается много народу. Три красавицы-сестры привлекают в гостиную Екатерины Васильевны таких блестящих молодых людей, как Левицкий, Острогский, Мелик-Мелкумов, Львов и другие. Ведутся нескончаемые разговоры (никто не говорит громко и не жестикулирует), говорят о живописи, о поэзии, о другом. Произносятся имена Хлебникова, Крученых, Ларионова, Малевича, Матюшина и др. Наступающие по временам паузы громоздятся друг на друга всей тяжестью великих имен.
ЛЕВИЦКИЙ
Сейчас уже нельзя говорить о Хлебникове и не говорить о Вологдове. Настолько велик его вклад как открывателя Велимира.
ОСТРОГСКИЙ
Да, это так... Вчера я был у Николая Ивановича. Он был какой-то хмурый, неразговорчивый. Я, чтобы немного развлечь его, героически пересказал содержание трех детективных фильмов, но все было напрасно. И вот, поздно, когда уже совсем стемнело, Николай Иванович вдруг оживился и заговорил. Он говорил о Чекрыгине. Это было необыкновенно, то, как он говорил! И я в который уже раз пожалел, что где-нибудь под столом не была спрятана звукозаписывающая машина... В этот вечер Николай Иванович раскрыл мне глаза на Чекрыгина, я стал что-то в нем понимать...
Оба (Л. и О.) горды своей дружбой с Н. И. Вологдовым. Только что вышла его статья о Петре Бромирском — «Неведомые шедевры». В этой гостиной она вызвала оживленный обмен мнениями.
Истленьев робко кашлянул, все на него посмотрели, но ничего не увидели.
Я всегда с восхищением читаю все, что печатает Вологдов, но я не умею быть красноречивым в гостиных.
Я молчу, освещаемый лампой. Истленьев молчит, освещаемый темнотой. Эвелины сегодня нет, и в гостиной царит порядок.
ЛЬВОВ
...черное пальто гостя, сутулый контур его спины были видны очень отчетливо, зато бледные лица хозяев, жены и мужа, выделялись на фоне белой стены только своей растерянностью.
ЛЕВИЦКИЙ
Вологдов мне рассказывал: Бромирский о себе однажды сказал, что он чувствует себя принцем, когда сходит по лестнице.
МЕЛИК-МЕЛКУМОВ
Замечательно!.. Но, все же, странно — чувствовать себя принцем вместо того, чтобы чувствовать себя богом... Я все никак не могу забыть одной его акварели!..
Львов ровным голосом начал читать «Казнь Хлебникова» А. Ривина (посвященную Н. И. В.):
Пророк! Со скатерти суконной
режь звездный драп тем поперек,
как математики учебник,
как тригонометр Попперек,
как тот историограф Виппер,
что взял и прахи чисел выпер,
суставом истин пренебрег...
Дальше я не слышал. Я и сумрак погрузились друг в друга. Сестра, ее жених, Соня — я просто забыл о них. Моя промокшая под дождем память еще не просохла и не отогрелась.
Я вдруг вспомнил себя, но тотчас же снова забыл. Я, кажется, здесь. Я боюсь своего взгляда, от него предметы начинают кровоточить.
17 октября.
Ночь прошла, наступила другая. Звезды, водосточные трубы — я люблю этот пейзаж.
Я был сдержан с сестрой, говорил ей что-то. Она смотрит и не видит. Ее безумная улыбка начинается сразу от входа. Сестра спешит в комнату, откуда глядит оставленная темнота. На этих стенах металась несчастная тень жениха. Я смотрю ровно, я сдержан, как ветер.
Сестра подошла к зеркалу, оно сразу же стало юродивым. Она отошла, оно — осталось.
Темнота и сумрак образовали угол, я укрылся в него. Из своего угла я наблюдал поздний приход жениха. Он принес два цветка: один голубой, другой без цвета. Мы молчали.
Сестра принесла чай. Время темнело из своего угла. Жених был слеп на одну половину. Сестра подвела его к себе, прижала к груди. Нити протянулись от чая к другим мирам. Цветок голубел, как безумный.
Небо было полно сониного мерцания. Другой цветок умер, я так и не узнал его цвета. Жених потянулся к лучам и вдруг поранился о стекло. Узкое лезвие спряталось мгновенно, зеркало брызнуло кровью, часы побелели. Часы побелели, как смерть. Я сжался в комок в своем углу. Увидя кровь, сестра стала в отчаянии ломать руки. Жених натолкнулся грудью на угол и ослеп на вторую половину. Сразу же ярко вспыхнули звезды, и он, вытянув перед собой руки, пошел прямо на них.